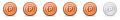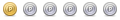......Прежде всего скажем, что гражданскую войну вели не две стороны. Их было гораздо больше. Мы отбрасываем всевозможные национальные движения, ловившие рыбку в мутной воде лихолетья, и констатируем, что само русское общество было расколото не на две противоборствующие группы, а на три. Это — самая страшная тайна советского и белогвардейского агитпропов, но это неопровержимый факт.
За отсутствием адекватного термина третью группу, существовавшую наряду с красными и белыми, назовём «зелёными». Тем более, что её в общем-то так и называли во время войны.
Зелёными были те, кто не примыкал ни к красным, ни к белым, Разумеется, логика войны заставляла их вступать в союзы с одной или другой стороной — тогда возникали такие словосочетания, как «бело-зелёные» и «красно-зелёные».
Разумеется, зелёные упоминаются во всех сочинениях о гражданской войне, но при этом подаются как некая экзотика, малочисленные и случайные отряды, единственно по какому-то капризу не присоединяющиеся к красным (вариант: белым) войскам. В реальности это было не так.
Сейчас можно назвать десятки армий и командующих, занимавших политическую позицию, далёкую от красных и белых платформ. Прежде всего, разумеется, на память приходят знаменитые анархисты. Теория анархии вряд ли глубоко проникла в народные массы, но вот её политическая практика, отвергающая сотрудничество и с советскими, и с белогвардейскими властями, вполне вписывается в складывающуюся перед нами картину гражданской войны. Наиболее известное и масштабное формирование анархистов (официально так определяемое) — армия Махно. Но анархистами в махновском движении были только члены его агитпропа, целиком составленного из анархистской конфедерации «Набат». Армия Махно как была крестьянской, так и осталась, да и сам Нестор Иванович, хотя до своей безвременной смерти в Париже признавал себя анархистом, оставался чисто «зелёным», не посягая на высоты теории и вполне довольствуясь несколькими основными положениями, усвоенными им на каторге от Волина-Эйхенбаума.
Политическая практика Махно и махновцев определяется следующей формулой: в период австро-германской оккупации Украины они сражались под своими лозунгами, но признавая подчинение Совнаркому. После революции в Германии повстанческое движение на Украине, признанным лидером которого постепенно становится Махно, в общем также подчинялось красному командованию (Махно даже был награждён орденом Красного Знамени), но противоречия стремительно нарастали, и летом 1919 г. Махно уже начинает военные действия против Красной Армии. На смену красным на Украину приходят белые, и Махно начинает жестокую борьбу с ними. Осенью 1919 г. на Украину вновь приходят красные, и Махно переключается на борьбу против них. Летом 1920 г. Врангель выдвигает программу аграрной реформы и на волне сочувствия намеченным преобразованиям начинает наступление. Махно опять входит в союз с красными и посылает свои дивизии в Крым, против Врангеля. Красные сразу после эвакуации врангелевцев из Крыма предательски разоружили и перебили махновские соединения, и Махно возобновил войну против советской власти. К осени 1921 г. она затухает, Нестор Иванович уходит в Румынию. Примерно таков же рисунок отношений с советской властью и всех других анархистских формирований — борьба против красных и против белых, вступление в союзы с красными в момент наивысших успехов белых (сказывалась былая революционная солидарность всех антиправительственных партий), но никогда не отмечалось союзов анархистов с белыми.
Таким же повсеместным и гораздо более массовым было принятие «зелёными» эсеровских лозунгов. Надо сказать, что партия эсеров пользовалась в народных массах огромной популярностью и, когда проводились выборы, оставляла все другие партии далеко за флагом. Большевики смогли взять власть на II съезде Советов только в результате раскола партии эсеров и образования партии левых с.-р. Позже, как известно, последняя горько пожалела о своём содействии большевикам и в июле 1918 г. попыталась устроить «третью революцию», но восстания в Москве, Петрограде и ещё примерно 40 городах были подавлены. Однако оставались чисто эсеровские (в подавляющем большинстве) местные самоуправления и части Красной Армии. С ними советской власти пришлось бороться ещё долго, и окончательно большевики рассчитались с эсерами только в 1921 г., устроив шумный процесс над партией.
Да не заподозрят нас в каком-либо сочувствии к эсерам. Господа Чернов-Кац, Керенский–Кирбис, Авксентьев, Гоц, Зензинов и пр. в наших глазах ничем, собственно, не отличаются от гг. Ульянова-Ленина, Троцкого-Бронштейна, Свердлова, Радека, Ярославского-Губельмана и прочих, имя им — легион. Полагаем, что это отлично понимали наши деды и прадеды. Но в том-то и была беда зелёного движения, что, в силу бедности интеллектуальными кадрами, оно не могло выработать свою, полностью отвечающую его устремлениям программу и вследствие организационной разобщённости не могло организовать агитацию за неё в общероссийском масштабе. Поэтому большая часть зелёного движения приняла эсеровские лозунги, уже вследствие самого оппозиционного положения партии к большевикам и белогвардейцам. Руководство эсеров, удобно устроившись в Париже, никакого влияния на это псевдодвижение не оказывало.
А движение было чрезвычайно мощным. Первые крестьянские восстания под эсеровскими лозунгами начались с весны 1918 г., и в последующем бывали моменты, когда вся советская территория была охвачена мятежами с эсеровской окраской, но в самой своей сущности бывшими проявлениями зелёного движения. На Волге, Урале и в Сибири оно попросту смело органы советской власти и создало многочисленные вооружённые силы. Это было самым мощным проявлением зелёного движения за все годы гражданской войны, и только слабость идеологической составляющей была причиной того, что власть в Сибири захватил Колчак. Но и против Колчака зелёные с эсеровской окраской начали поднимать восстания чуть ли не на следующий день после его прихода к власти, а к осени 1919 г. мощные зелёные крестьянские армии сбросили власть адмирала, уничтожили его самого и... передали власть красным. Буквально на следующий год эти армии начали снова собираться — воевать против красных — но времена были уже не те.
Самый яркий эпизод зелёного движения на Востоке — конечно же Ижевско-Воткинское восстание. Оно было поднято рабочими оружейных заводов под руководством Союза фронтовиков, имевшего эсеровскую окраску, но всё же не эсеровского (в ходе борьбы Союз фронтовиков передал-таки власть эсерам, затем, убедившись в их несостоятельности, опять принял власть в районе восстания на себя). Восставшие боролись с августа 1918 г. до ноября, затем, истощив силы и средства обороны, пробились к белым (ещё не зная о перевороте Колчака). Ижевская и Воткинская повстанческие армии стали дивизиями в армии Колчака и сражались под красными флагами, пока адмирал не догадался пожаловать им за доблесть георгиевские знамёна. Ижевцы и воткинцы составили знаменитый корпус Каппеля, единственный, который отступил из Сибири организованно, затем, уже под командованием Войцеховского, до осени 1920 г. сражался в районе Читы, откуда отступил через Харбин во Владивосток и там, уже под именем «Земской рати», продолжал борьбу до октября 1922 г. Таким образом, самыми упорными врагами советской власти оказались именно рабочие Ижевска и Воткинска — это выглядело бы парадоксом, если бы мы отмахнулись от своей концепции третьей (зелёной) силы.
Достаточно ярким было зелёно-эсеровское движение и в тылу Деникина. Кроме Махно, в добивании Вооружённых Сил Юга России приняли участие «красно-зелёные» Черноморской губернии и других территорий. Да мало ли примеров! Такие вожди красных войск, как Щорс, Чапаев, Сорокин, Миронов и пр., не были большевиками. Они были членами либо партии эсеров, либо других социалистических партий (Миронов, например, был активистом партии народных социалистов). Партбилеты РКП(б) они получали только после того, как их партии и организации вливались в РКП(б), но всё равно считались на подозрении и ликвидировались большевиками при первой возможности. Нельзя не отдать должного предусмотрительности большевиков.
Те народные герои, которых ВЧК не успела ликвидировать, в конечном счёте приходили к борьбе с советской властью. Этих имён сотни. Например, красный комдив Сапожков в июле 1920 г. поднял восстание в районе Бузулука и до апреля 1922 г. его отряд (Сапожков погиб в бою в сентябре 1920 г.) держал в страхе всё Заволжье от Саратова до Астрахани. Другой пример — красный комбриг 1-й конной армии Яков Фомин, неустрашимый казак-революционер, будучи послан со своей бригадой в начале 1921 г. в погоню за Махно, прорвавшимся в Донскую область, вдруг собирает митинг, на котором бригада принимает резолюцию о переходе к борьбе с советской властью, и до зимы 1922 г. сражается в донских степях (у Шолохова этот эпизод показан окарикатуренно, в чём мы виним не великого писателя, а троцкистскую цензуру 20-х гг.).
В отличие от анархистов, зелёные движения под эсеровскими лозунгами достаточно часто переходили на сторону белых армий. Иногда это происходило вследствие известной близости кадетской идеологии белого движения и правых социалистических концепций, иногда просто потому, что некуда бывало податься. Например, в ходе известного рейда на Козлов–Тамбов–Воронеж летом 1919 г. генерал Мамонтов сформировал из зелёных повстанцев и вывел на белую территорию целую повстанческую дивизию.
Классика зелёного движения под эсеровскими лозунгами — конечно же тамбовское восстание, как его называют. На самом же деле это было не просто восстание, а упорная двухлетняя война. Но было ведь и зелёное движение без эсеровского влияния (как мы уже убедились на примере Ижевско-Воткинского восстания), чаще всего на окраинах бывшей империи. Например, крестьянская армия Ферганы (20 тыс. бойцов) под руководством бывшего полковника Монстрова полтора года сражалась против басмаческих (попросту — разбойничьих) шаек без всяких лозунгов и подчиняясь руководству Туркестанской республики лишь настолько, насколько это руководство снабжало армию боеприпасами. К весне 1919 г., однако, пришлось выбирать и зелёным ферганцам. Командование армии заключило союз с басмачами, но, пока армия шла на соединение с Мадамин-беком, от неё остался только штаб — крестьяне-переселенцы Ферганы не сочли для себя возможным встать под знамя пророка... Так же сложился и известный Семиреченский фронт, но у него была другая судьба. А борьба и трагедия разоружённой англичанами Ленкоранской республики в 1919 году?
Мы, честно говоря, начинаем теряться в массе примеров. Просто невозможно упомянуть всех, кто сражался в той войне за лучшую жизнь и за справедливость, отвергая нелепые идеологемы типа «счастья всех пролетариев, особливо негров и китайцев» или «сохранения помещичьего землевладения до решений Учредительного собрания». Не вмещается всё это в рамки газетной статьи, а обобщающего труда по истории зелёной России в 1917—1921 гг. наши историки так и не создали — всё больше о руководящей роли партии... Автор же вообще не считает себя историком, искренне полагая, что принимать это звание можно только после того, как профессионально, под руководством хорошего учителя, усвоишь источниковедение и архивное дело. Нет, автор только дилетант, хотя и не признаёт уничижительного оттенка, закрепившегося за этим словом (оно означает всего лишь «любитель»). Поэтому автор решил продолжать тему на более знакомом и более близком ему материале.
Четвёртая сторона?
.........
http://fstanitsa.ru/novoe-vremya/konets ... skoi-voiny