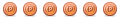Октябрь, который спас страну от "болота". Полезный опыт революции
http://rusinform.ru/index.php?newsid=1867
Главная до недавнего времени — да и ныне памятная — дата нашего праздничного календаря отмечается сейчас довольно забавным образом. Официальная формулировка гласит: на Красной площади проводятся шествие в честь парада, состоявшегося 7-го ноября 1941-го года. Формально это правильно: такой парад в тот день действительно был. Но наша власть стесняется сказать, а в честь чего, собственно, был парад. А парад был, как известно, в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
...современный анализ доказывает: без этой революции мы бы гарантированно проиграли войну, в ходе которой состоялся парад. ...наша страна до этой революции с каждым годом отставала от большей части мира и отставала с каждым годом всё дальше.
Это может показаться странным, поскольку очень часто мы видим ссылки на статистику: до революции наша страна около четырёх десятилетий была на первом месте в мире по скорости развития экономики. Да, такие статистические данные действительно есть — но при этом наше отставание от других ведущих стран непрерывно росло.
Практически одновременно началось бурное хозяйственное развитие в трёх крупных странах....Начиная с этих ключевых моментов и до начала Первой мировой войны, по всем формальным показателям наивысшая скорость развития была в Российской империи. Но в то же самое время российская экономика в 1913-м году составляла меньшую долю от германской или американской, чем четырьмя десятилетиями ранее. Мы вроде бежали быстрее других — и в то же время от других отстали.
Почему так получилось? По многим причинам. Но главная из этих причин — в том, что экономика Российской империи в эти четыре десятилетия развивалась в основном на заёмные средства, и направлялись эти средства туда, куда нужно было нашим кредиторам, а не нам самим.
Например, за два десятилетия перед Первой Мировой войной на французские кредиты построено громадное количество российских железных дорог. По скорости их строительства мы ставили рекорд за рекордом. Но после революции нам пришлось в тех же районах, где строились эти дороги, достраивать новую дорожную систему. Ведь французы вкладывали деньги почти исключительно в дороги, идущие из глубины страны на запад — чтобы в случае войны мы могли как можно скорее перебросить свои войска к германской границе. А дополняющая эту сеть дорог, вытянутых по параллелям, сеть дорог, вытянутых по меридианам, построена уже в советское время. Потому что эта сеть дорог, вытянутая по меридианам, была нужна для развития нашей собственной экономики, а Франции развитие нашей экономики было совершенно не нужно, поэтому такие дороги она не финансировала.
Можно приводить ещё множество других примеров — но даже из этого единственного уже виден общий принцип: развитие на зарубежные инвестиции — это развитие в качестве придатка к источникам инвестиций, так что даже формально высочайшая скорость развития лишь усиливает отставание.
Так вот, то, что произошла революция — при всех её бесчисленных и зачастую очень тяжёлых побочных эффектах — привело к тому, что в дальнейшем, когда мы в конце 1920-х и начале 1930-х годов взяли зарубежные кредиты на новую индустриализацию, эти кредиты направлялись туда, куда было нужно нам самим, а не туда, куда было нужно нашим кредиторам. Поэтому наша страна развивалась не просто сверхбыстро, а ещё так, как нужно было нам — в частности, стала обороноспособной.
...
Далее, ещё одна существенная подробность. В рассуждениях о России, которую мы потеряли, обычно говорят о России образца 1913-го года — последнего благополучного года в нашей дореволюционной истории. Но, во-первых, в этом году уже было достаточно серьёзных внутренних противоречий, которые, в конечном счёте, и привели к революции. А во-вторых, что не менее существенно, Октябрьская революция произошла всё-таки не в 1913-м году, а в 1917-м. И произошла она после февральского государственного переворота, в ходе которого не только свергнута законная власть (причём свергнута, как выяснилось, под, мягко говоря, совершенно надуманным предлогом), но вдобавок к власти пришли такие деятели, на чьём фоне эта прежняя власть выглядела кристально честной, невероятно благородной и в высшей степени разумно действующей. По сути, именно в результате Февральской революции сложилась обстановка, подобная той, в которой Наполеон Карлович Бонапарт за сто два года до того — в 1815-м, возвращаясь с острова Эльба во Францию — сказал: «Корона Франции валялась в грязи — я поднял её своей шпагой, и народ сам возложил её на мою голову». По сути, тогдашний февраль — затея тогдашних белоленточников. И то, что за ними тогда стояли не американские советники, а английские — вовсе не делает их самих разумнее, честнее и способнее к управлению государством.
...
Так вот, Октябрьская революция — совершенно естественный акт противодействия тогдашнего народа тогдашним белоленточникам. Понятно, нынешние белоленточники люто ненавидят Октябрьскую революцию. Понятно, её так же люто ненавидят и наследники тогдашних британцев и французов, которым тогда народ, нашедший для выражения своих интересов большевистскую партию, обломал грамотные далеко идущие планы. Но так же понятно: для нашей страны эта революция стала спасением из того тупика, куда неизбежно заводит любой белоленточный переворот.
Остаётся надеяться: из нынешнего тупика, порождённого белоленточным переворотом 1991–3-го годов, мы сумеем выйти с учётом накопленного опыта — а значит, с меньшими побочными эффектами и с ещё лучшим результатом.