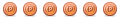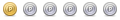Павел Иванович Мельников-Печерский. Старые годы
Нет, сударь, в стары годы жили не так. В стары годы господа держали
себя истинно по-барски, такую дрянь, как нищий слепец, на версту к себе не
допускали. Знай, дескать, сверчок свой шесток. Компанию с ровней водили,
другой хоть и шляхетного роду, да не богат, так его разве только из милости
в "знакомцы" принимали, чтоб над ним когда потешиться, аль чтобы в доме
было полюднее. И должен был тот "знакомец" ходить по струнке, а чуть
проштрафился, шелепами его на конюшне... Да иначе и не следует: как бы на
горох не мороз, он бы через тын перерос. Так вот, сударь, как в стары-то
годы живали! А теперь что! Тьфу!
..................................................................................................
А батюшку моего покойника князь Алексей Юрьич изволил жаловать своей
княжею милостью. Перво-наперво он у него в доезжачих находился, а потом в
стремянные попал, да проштрафился однажды: русака в остров упустил. Князь
Алексей Юрьич за то на него разгневался и тут же, на поле, изволил его из
своих рук выпороть, да уж так распалился, что и на конюшне еще велел
пятьсот кошек ему влепить и даже согнал его со своих княжих очей: велел
управляющим быть в низовой вотчине... Однако ж после того годов этак через
пяток помиловал - гнев и опалу изволил снять.
Вот как то дело случилось. Князь Алексей Юрьич на охоту по первой
пороше поехал. Время стояло холодное, на Волге уж закраины, только самые
еще что называется стекольные, значит, лед пятаком можно еще пробить. Ста
полтора русаков заполевали, за монастырем, на угоре, привал сделали. А гора
в том месте высокая, что стена над Волгой-то стоймя стоит. Князь Алексей
Юрьич весел был, радошен, потешаться изволил. Сел на венце горы верхом на
бочке с наливкой, сам целый ковшик изволил выкушать, а потом всех тут
бывших из своих рук поил, да, разгулявшись, и велел доезжачим да стремянным
резака делать. А чтоб сделать резака, надо под гору торчмя головой лететь,
на яру закраину головой прошибить да потом из-подо льда и вынырнуть.
Любимая была потеха у покойника, дай бог ему царство небесное! На ту пару
никто не сумел хорошо резака сделать: иной сдуру, как пень, в реку
хлопнется, - а это уж не то, это называется паля, и за то пятнадцать кошек
в спину, чтоб она свое место знала и вперед головы не совалась. Другой, не
долетевши до льда, на горе себе шею свернет, а три дурака хоть и справили
резака, да вынырнуть не сумели: пошли осетров караулить. Осерчал князь
Алексей Юрьич: "Всех, закричал, запорю до смерти!" За мелкопоместное
шляхетство принялся, им приказал резака справлять. Те еще хуже: один и
прошиб было головой лед, да тоже к осетрам в гости поехал.
Заплакал индо князь Алексей Юрьич, навзрыд зарыдал: таково ему стало
горько и прискорбно.
- Видно, говорит, последние мои дни настают, что нет у меня молодца,
чтоб резака сумел справить!.. Все ровно бабы!.. А где, говорит, Яшка
Безухой?.. Вот удалец-от: по три резака, бывало, сряду делывал.
А это он про батюшку-покойника изволил вспомянуть. А батюшка-покойник
и в самом деле безухий был. Лево-то ухо ему медведь отгрыз: раз как-то
князь Алексей Юрьич изволил приказать батюшке с любимым своим медведем
побороться, медведь, видно, осерчал да ухо батюшке и прочь, а
батюшка-покойник не вытерпел да охотничьим ножом Мишку под лопатку и
пырнул. У того дух вон. Так за то, что осмелился без спросу княжего медведя
положить, князь Алексей Юрьич приказал для памяти батюшке-покойнику и
другое ухо отрезать и прозвал его потом Яшкой Безухим. А батюшку-покойника
вовсе не Яковом, а Прокофьем звали.
- Где, кричит, Яшка Безухой. Подавай сюда Яшку Безухого!
Доложили, что Яшка Безухой под гневом находится пятый год, низовой
вотчиной управляет.
- Давай сюда Яшку Безухого - он у меня на резаке не прорежется, как
вы, шельмецы.
Поскакали за покойным батюшкой. Ну, Саратов - место не ближнее: когда
батюшку оттуда ко княжему двору привезли, лед-от такой уж стал, что будь у
покойника свинцовая голова, так и тут бы ему резака не сделать. Допустили
батюшку до светлых очей князя Алексея Юрьича.
- Здравствуй, говорит, Яшка Безухой!
Батюшка в ноги; князь его пожаловал, велел встать.
- Что, говорит, резака завтра с того угора вальнешь?
- Можем постараться, батюшка, ваше сиятельство, надеючись на милость
божию да на ваше княжеское счастье! - отвечал покойник родитель мой.
- Ладно, говорит, ступай на псарный двор. Жалую тебя сворой муругих.
А к утру вьюга. Да так поля засыпала, что охота совсем порешилась.
Остался резак за батюшкой до другого ледостава. Зато уж какого же резака на
другую-то осень он справил... И за такую службу его и за великое раденье
жаловал его князь Алексей Юрьич своей княжеской милостью: изволил к ручке
допустить, при своей княжой охоте приказал находиться, красный чекмень с
позументом пожаловал, на барской барыне женил, и сказано было ему быть в
первых псарях. И до самой кончины князя Алексея Юрьича батюшка у него в
самых ближних людях и в большой милости находился.
.......................................................................................................
Верстах в двадцати от Заборья, там, за Ундольским бором, сельцо Крутихино есть.
Было оно в те поры отставного капрала Солоницына: за увечьем и ранами был тот
капрал от службы уволен и жил во своем Крутихине с молодой женой... А вывез он ее из
Литвы, аль из Польши, а может статься, из хохлов, доподлинно не знаю, -
только красавица была писаная, теперь, думать надо, изойти весь белый свет,
такой не найдешь. Князю Алексею Юрьичу Солоничиха приглянулась: сначала
хотел ее честью в Заборье сманить, однако ж она не поддалась, а муж
взъерошился, воюет: "Либо, говорит, матушке государыне подам челобитную,
либо, говорит, самого князя зарублю". Выехали однажды по лету мы на
красного зверя в Ундольский бор, с десяток лисиц затравили, привал возле
Крутихина сделали. Выложили перед князем Алексеем Юрьичем из тороков зверя
травленого, стоим, ждем слова ласкового.
А князь Алексей Юрьич кручинен сидит, не смотрит на красного зверя
травленого, смотрит на сельцо Крутихино, да так, кажется, глазами и хочет
съесть его.
- Что это за лисы, говорит, что это за красный зверь? Вот как бы кто
мне затравил лисицу крутихинскую, тому человеку я и не знай бы что дал.
Гикнул я да в Крутихино. А там барынька на огороде в малинничке
похаживает, ягодками забавляется. Схватил я красотку поперек живота,
перекинул за седло да назад. Прискакал да князю Алексею Юрьичу к ногам
лисичку и положил. "Потешайтесь, мол, ваше сиятельство, а мы от службы не
прочь". Глядим, скачет капрал; чуть-чуть на самого князя не наскакал...
Подлинно вам доложить не могу, как дело было, а только капрала не стало, и
литвяночка стала в Заборье во флигеле жить. Лет через пять постриглась,
игуменьей в Зимогорском монастыре была, и князь Алексей Юрьич очень украсил
ей обитель, каменну церковь соорудил, земли купил, вклады большие
пожаловал.
.......................................................................................................
на ярмонку ради порядку князь Алексей Юрьич каждый день изволил сам
выезжать. Чуть кого в чем заметит, тут ему и расправа. И суд его был всем
приятен, для того, что скоро кончался; тут же, бывало, на месте и разбор и
взысканье, в дальний ящик не любил откладывать: все бы у него живой рукой
шло. Чернил да бумаги беда как не жаловал. Зато все торговые люди, что на
Заборскую ярмонку съезжались, как отца родного любили его, благодетелем и
милостивцем звали. И они до бумаги-то не больно охочи. До челобитных ли да
до приказных дел купцу на ярмонке, когда у всякого каждый час дорог?
Не любил тех князь Алексей Юрьич, кто помимо его по судам просил.
Призовет, бывало, такого, шляхетного ли роду, купчину ли, мужика ли, ему
все едино: перво-наперво обругает, потом из своих рук побить изволит, а
после того кошки, плети аль кашица березовая, смотря по чину и по званию. А
после бани тот человек должен идти к князю благодарить за науку.
- То-то и есть, - скажет тут князь, - ты как гусь: летаешь высоко, а
садиться не умеешь, вот и дождался. Разве нет тебе моего суда, что вздумал
по приказным ходить? Смотри же, вперед будь умнее...
И ничего, еще ручку пожалует поцеловать и велит того человека напоить,
накормить до отвалу.
.....................................................................................................
В летнюю пору после обеда садился, бывало, он в кресла подремать
маленько. Кресла ставили на балконе, задние ножки в комнате, а передние на
балконе, так на пороге и дремлет. И тогда по всему Заборью и на Волге на
всех судах никто пикнуть не смей, не то на конюшню. Флаг над домом особый
выкидывали, знали бы все, что князь Алексей Юрьич почивать изволит.
Дремлет он этак раз, а барчонок из мелкопоместных "знакомцев", что из
милости на кухне проживал, тихонько возле дома пробирается. А в нижнем
жилье, под самым тем балконом, жили барышни-приживалки, вольные дворянки, и
деревни свои у них были, да плохонькие, оттого в Заборье на княжеских
харчах и проживали. Барчонок под окна. Говорить не смеет, а турусы на
колесах барышням подпустить охота, стал руками маячить, а сам ни гугу.
Барышням невтерпеж: похохотать охота, да гроза наверху, не смеют. Машут
барчонку платочками: уйди, дескать, пострел, до греха. А барчонок
маячил-маячил, да как во все горло заголосит: "Не одна-то во поле
дороженька". Заорал да и драла. Вершники, что у крыльца стояли, его не
заприметили, сами тоже вздремнули; час был полуденный. Так барчонок и
скрылся.
Пробудился князь. Грозен и мрачен, руки у него так и дергает.
- Кто "Дороженьку" пел? - спрашивает.
Побежали сломя голову во все стороны. Ищут.
А барчонок себе на уме, семью собаками его не сыщешь. Улегся на
сеннике, спит тоже будто. Кроме барышень никто его не приметил, а те,
известное дело, не выдадут.
- Кто "Дороженьку" пел? - кричит князь Алексей Юрьич.
Бегают холопи, не могут найти.
- Кто "Дороженьку" пел? - кричит князь. На крыльцо вышел, арапник в
руке.
Не знают, что доложить, бегают, рыщут, дознаться не могут.
- Кто "Дороженьку" пел? - на все село кричит князь Алексей Юрьич. -
Сейчас передо мною поставить, не то всех запорю!
Не могут найти. Рычит князь, словно медведь на рогатине. Ушел в дом,
зеркала звенят, столы трещат.
Старший дворецкий и холопи все кланяться стали Ваське-песеннику:
"возьми на себя, виноватого сыскать не можем".
Васька себе на уме, уперся. "Спина-то, говорит, моя, не ваша, да еще
чего доброго, пожалуй, и в пруд угодить". Не желает.
Стали ему кучиться со слезами: "дворецкий, мол, тебя выручит, а на
всякий случай вот тебе десять рублев деньгами". А десять рублей в старые
годы деньги были большие.
Почесал в затылке песенник: и спины жаль, и с деньгами расстаться не
охота. "Ну, говорит, так и быть, идем. Только смотри же, коль не из своих
рук станет пороть, так вы, черти, полегче".
А тем временем князь распалился без меры.
- Всему холопству, кричит, по тысяче кошек, все шляхетство плетьми
задеру. Да спросить у барышень, они должны знать... Не скажут, юбки подыму,
розгачами угощу!
Страх смертный. Пикнуть не смеет никто, дышать боятся.
- Кошек! - зарычал. Зычный голос по Заборью раздался, и всяка жива
душа затрепетала.
- Ведут, ведут, - кричат комнатные казачки, завидев дворецкого, а за
ним гайдуков: волочили они по земле по рукам по ногам связанного
Ваську-песенника.
Сел князь на софу суд и расправу чинить. Подвели Ваську. Сами ни живы,
ни мертвы.
- Ты "Дороженьку" пел? - спросил у песенника князь Алексей Юрьич.
- Виноват, ваше сиятельство, - отвечал Васька-песенник.
Замолк князь. Помолчал маленько и молвил:
- Славный голос у тебя... Десять рублей ему да кафтан с позументом!
..........................................................................................................................................
А как после ужина
барыни да барышни за княгиней уйдут, а потом и из господ кто чином помельче
аль годами помоложе по своим местам разойдутся, отправится князь Алексей
Юрьич в павильон и с собой гостей человек пятнадцать возьмет. И пойдет там
кутеж на всю ночь до утра. Только что войдут туда князь Алексей Юрьич, и
кафтан и камзол долой, гости тоже. Спервоначалу кипрским вином серебряную
дедовскую ендову нальют, "чарочку" запоют и пустят ендову вкруговую. Не то
попарно, как гребцы в лодке, на пол усядутся. "Вниз по матушке по Волге"
затянут и орут себе что есть мочи. А запевалой сам князь Алексей Юрьич.
- Нет, скучно так, ребята, - скажет, бывало, - богинь, богинь сюда с
Парнаса!
И влетят богини: Дуняша, Параша, Настенька, Машенька, Грушенька,
девять сестер, что в пасторали были, да еще сколько нужно на придачу по
числу гостей. Все разряжены: которая в пудре и роброне, ровно барышня,
которая в сарафане, а больше так, как в павильонах на стенах писано.
Красавицы-то были какие! Хоть бы Дуню взять. Беленькая, крепонькая,
черные глазенки в душу так и смотрят. Пойдет плясать: старик растает, на
нее глядя! Бубен в руку; вверх его над головой вскинет, обведет всех
глазами, топнет ножкой да вольной птичкой так и запорхает, а сама вся, как
змейка, изгибается, от сердечной истомы щеки пышут, глазки горят, а ротик
раскрыт у голубушки... Настенька опять - девочка славная, кровь с молоком,
голосок соловьиный. Войдет, в сарафане алого бархату, в кружевных рукавах,
на голове золотая повязка, коса у Настеньки по колена, - на кого ни
взглянет, рублем подарит, слово кому скажет, мурашки у того по всему телу
забегают... Или Груша опять!.. Машенька!.. На подбор были собраны
красавицы, а выбирались из целой вотчины. Все-то состарелось, а
состарившись примерло!..
Заря в небе зарумянится, а в павильоне песни, пляс да попойка.
Воевода, Матвей Михайлыч, драгунский, Иван Сергеич, губернатор и другие
большие господа, - кто пляшет, кто поет, кто чару пьет, кто с богиней в
уголку сидит... Сам князь Алексей Юрьич напоследок с Дуняшей казачка
пойдет.
- Эй, вы, римляне! - крикнет под конец. - Похищай сабинянок, собаки!
Схватит каждый гость по девочке: кто посильней, тот на плечо
красоточку взвалит, а кто в охапку ее... А князь Алексей Юрьич станет средь
комнату, да ту, что приглянулась, перстиком к себе и поманит... И
разойдутся.
Тем именины и кончатся.
....................................................................................................................................
Стал князь сноху на нечистую любовь склонять. В ужас княгиня пришла, услыхавши
от свекра гнусные речи... Хотела образумить, да где уж тут!.. Вывел
окаянный князя на стару дорогу...
- А! еретица!.. Честью не хочешь, так я тебе покажу.
И велел кликнуть Ульяшку с Василисой: бабищи здоровенные, презлющие.
- Ну-ка, - говорит. - По старине!..
Закрутили бабы княгине руки назад и тихим обычаем пошли по своим
местам. А князь гаркнул в окошко:
- Рога!
В двести рогов затрубили, собачий вой поднялся, и за тем содомом
ничего не было слышно...
И пошла-поехала гульба прежняя, начались попойки денно-нощные, опять
визг да пляску подняли барские барыни, опять стало в доме кабак-кабаком...
По-прежнему шумно, разгульно в Заборье... И кошки да плети по-прежнему в
честь вошли.