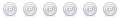Итак еще цитата от моего начитанного друга (честно признаюсь, я не в состоянии прочесть такой объем книг)
развёрнутую цитату из книги А.С.Велидова (ныне, увы, покойного) "К истории ВЧК-ОГПУ. Без вымысла и купюр". Автор - профессор. Преподавал в Высшей школе КГБ. Имел, соответственно, доступ к закрытым архивам. Сама книга представляет собой сборник его статей разных лет (1958-2002). ...
Велидов утверждал, что центральные власти вплоть до лета 1918 года старались избегать слишком суровых репрессий.
Про многочисленные перегибы на местах, а именно - в районах активных боевых действий, разумеется, тоже упоминает.
..........................................................
"...Таким образом, после принятия Совнаркомом декрета "Социалистическое отечество в опасности!" ВЧК стала применять меры террора в отношении отдельных категорий преступников. За четыре месяца - с конца февраля до конца июня 1918 года она расстреляла по уточнённым данным около 50 человек. Среди них одного провокатора, одного шпиона, трёх крупных спекулянтов. Четыре человека были расстреляны за незаконную продажу оружия и пьяный разгул, шестеро - за составление антисоветского воззвания в городе, объявленном на осадном положении (последний случай рассматривался как эксцесс). Большую же часть преступников - свыше тридцати человек ВЧК подвергла этой мере наказания за участие в вооружённых грабежах, подлоги, вымогательство, изготовление фальшивых денег, убийства. В то же время она не вынесла ни одного постановления о расстреле контрреволюционных заговорщиков, саботажников, членов антисоветских партий. И это несмотря на то, что враги Советской власти уже открыто встали на путь политического террора!
В конце декабря 1917-начале января 1918гг. Петроградский ревтрибунал рассмотрел дело об офицерско-юнкерской монархической организации, готовившей свержение Советской власти. Во главе её стояли В.М.Пуришкевич, доктор В.П.Всеволжский, генерал Д.И.Аничков (двух последних арестовать не удалось), полковник Ф.В.Винберг, барон Н.Н. де Боде (начальник штаба)... В гостинице "Россия", где проживали многие заговорщики, было обнаружено закупленное оружие - пулемёт и револьверы, а также подложные бланки различных военных учреждений. При задержании Пуришкевича у него изъяли написанное им и де Боде письмо к генералу Каледину, которое они не успели отправить. В письме сообщалось о сформировании военной организации, о готовности е к моменту подхода войск Каледина к Петрограду ударить в тылу всеми наличными силами. "Политика уговоров и увещеваний дала свои плоды, писали Пуришкевич и де Боде, - всё порядочное затравлено, загнано и властвуют преступники и чернь, с которыми теперь нужно будет расправиться уже только публичными расстрелами и виселицей...".
В ходе судебного рассмотрения дела вскрылись факты участия членов организации в мятеже юнкеров, связь её с "Комитетом спасения", планы захвата Смольного, некоторых кораблей Балтийского флота. Подсудимые отказывались от своих показаний, данных на предварительном следствии, отрицали существование военной организации, утверждали, что собирались "за чашкой чая" для бесед на политические темы. В то же время многие из них не скрывали своих монархических убеждений. Так, полковник Винберг заявил, что он считает революционное движение опаснейшим врагом прочного установления государственных основ. "Я всю жизнь посвятил подавлению этого вредного для родины движения и нисколько в этом не раскаиваюсь... Во мне крепко и стойко чувство монархизма... Я враг революции и не верю в осуществление утопического социализма". Ревтрибунал вынес приговор: Пуришкевича подвергнуть принудительным работам при тюрьме на четыре года условно, причём после первого года работ с зачетом предварительного заключения - освободить. Такому же наказанию были подвергнуты барон де Боде, полковник Винберг и содержатель конспиративной квартиры заговорщиков И.Д.Парфёнов. Остальных трибунал осудил на заключение в тюрьму сроком от двух до девяти месяцев. Два юнкера по молодости были освобождены от наказания и в тот же день, 3 января, выпущены из тюрьмы.
Через несколько дней вышли на свободу ещё два участника монархической организации.
Осуждённых руководителей поместили в "Кресты". Там им была предоставлен возможность часто встречаться с родными, несколько раз в неделю получать передачу. Когда у Пуришкевича заболел сын, то председатель ревтрибунала разрешил ему на неделю с 17 по 24 апреля выйти из тюрьмы для ухода за больным. Пуришкевич дал письменное обязательство, скрепив его честным словом, что он 25 апреля явится в трибунал и что за время пребывания на свободе не будет заниматься общественной деятельностью и делать публичные выступления. В начале мая 1918 года все осужденные по делу о монархическом заговоре были освобождены. Наиболее суровый приговор, который вынес Петроградский ревтрибунал [имеется в виду - в то время, и именно ревтрибуналом], - изоляция от общества, т.е. тюремное заключение на пять лет. К такому наказанию был приговорён в январе 1918 года агент царской охранки П.Деконский. Вскоре и его ввиду болезни лёгких освободили на поруки левого эсера Гомберга. Деконский дал подписку о явке по первому требованию и об отказе участвовать в общественно-политической работе.
Столь же мягкие приговоры по делам о контрреволюционных выступлениях выносили и другие ревтрибуналы. Например, в Московский ревтрибунал с 21 декабря 1917 года по 1 июня 1918 года поступило 245 таких дел, из них было рассмотрено девять. По ним трибунал вынес четыре обвинительных приговора - в одном случае денежный штраф, в трёх - тюремное заключение от 3 месяцев до 17 лет.
Саратовский ревтрибунал 18 марта 1918 года рассмотрел дело о Н.Ф. Мишукове-Аранском, одном из организаторов восстания солдат-фронтовиков. Подсудимый обвинялся в агитации среди солдат к вооружённому выступлению против Советской власти. Трибунал вынес приговор: "Именем Российской социалистической федеративной республики, Саратовский трибунал в публичном заседании и по выслушиванию дела нашёл: Произношение слов обвиняемым о свержении Советской власти - недоказанным, но признаёт виновным Мишукова-аранского в произношении слов, опасным по своим последствиям укреплению революционного порядка, а потому определил: гражданину Николаю Фёдоровичу Мишукову-Аранскому выразить строгое общественное порицание и лишить его активного и пассивного избирательного права во все выборные общественные и рабочие организации на четыре месяца со дня приговора. Приговор окончательный и в апелляционном порядке обжалованию не подлежит".
...............................................................