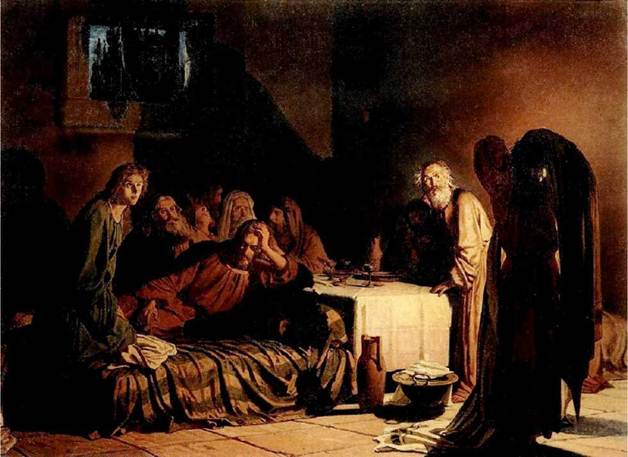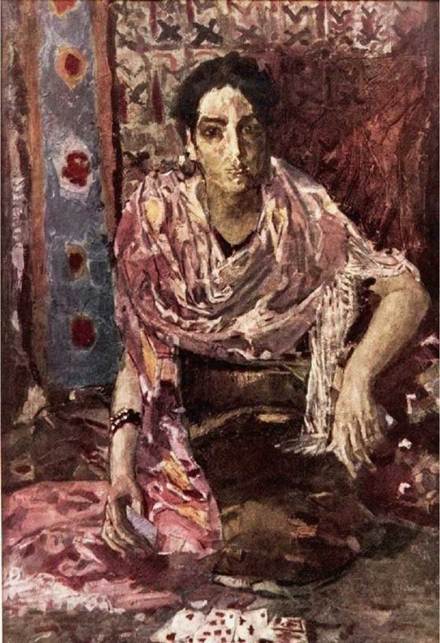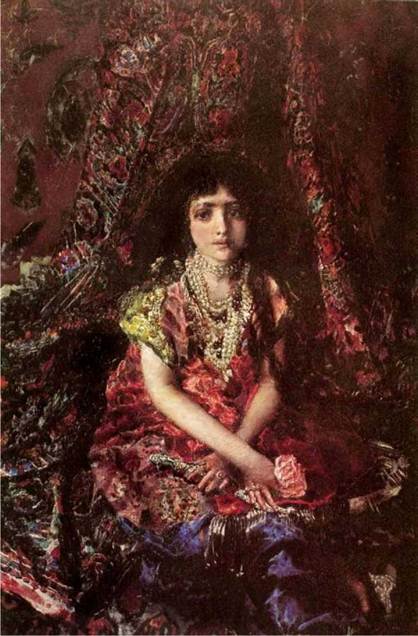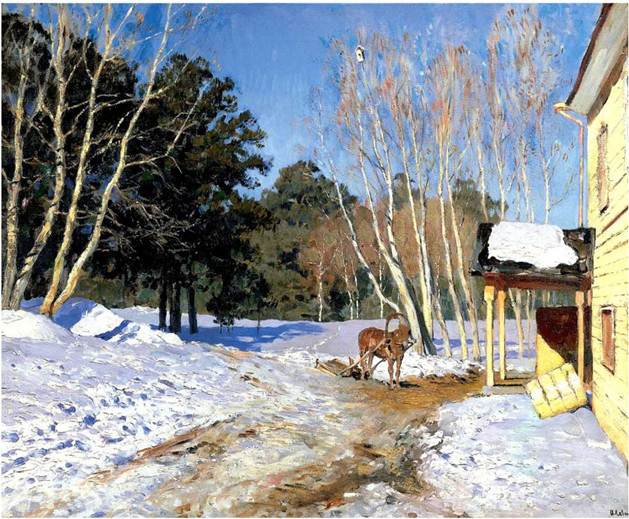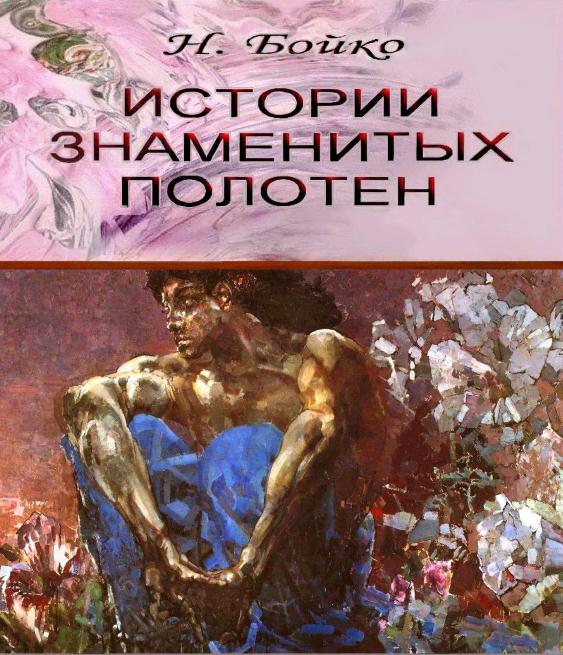
Со школьной скамьи я увлекалась русской живописью. Но, листая художественные альбомы, мне не хватало описания картин. Какое событие изображено на картине? Какую мысль вложил художник в свое произведение? Какою оказалась судьба, созданного им полотна?.. Почему-то эта важная сторона всегда оставалась в тени.
Взять хотя бы картину В. И. Сурикова «Переход Суворова через Альпы». Смотришь, и не имеешь понятия, о чем в ней речь. В школьных учебниках это событие не освещалось — впрочем, как и многие другие события российской истории. Вот и думаешь, что художник показал лишь смекалку великого полководца. Бравый Суворов, улыбки... Картина не останавливает внимания. Но когда узнаёшь, что это измученная, преданная союзниками, но не потерпевшая ни одного поражения русская армия пробивается в Россию, что Суворов дружеской шуткой подбадривает солдат, — воспринимаешь совсем иначе; картина запоминается навсегда.
Интересовала меня и жизнь самих художников. В биографических книгах я не всегда находила ответы на свои вопросы. Только спустя много лет, отыскивая сведения в самых разных источниках, я постепенно узнавала то, что для меня было важно.
Понимая, насколько серьезен собранный мною материал, я решила изложить его в книге, дать возможность читателю окунуться в атмосферу XIX века с его интересами и потребностями. Читатель узнает, как пробивало себе дорогу русское искусство, и как Павел Михайлович Третьяков создавал национальную художественную галерею, «само становление которой было в то же время процессом становления русского национального искусства, более того — русского национального самосознания».
Нина Бойко
Василий Андреевич Тропинин (1776 – 1857)
|
|
ПОРТРЕТ СЫНА
Василий Тропинин был крепостным, поэтому не имел не только отчества, но и фамилии: Васька, Васютка, — и всё. Родился он в Новгородской губернии, рос смышленым и барин, граф Миних, отдал его в губернское училище постигать грамоту. Мальчик учился прилежно, но через два года его возвратили в имение и сделали «казачком» — натирать господскую обувь, бегать по поручениям, набивать табаком трубку, заменять при надобности лакея. Потом Миних отдал его в качестве приданого своей младшей дочери, которая вышла замуж за генерала Моркова и уехала в Могилево-Подольск. Там у Василия обязанностей еще прибавилось, он смертельно уставал, и ему постоянно хотелось спать.
Помещики в Могилево-Подольске очень важничали, если имели у себя «ученых поваров», которые выпекали пирожные, умели делать конфеты, мороженое и прочее. У Моркова такого повара не было, и он решил отправить Василия в Петербург, чтобы выучился кондитерскому искусству.
В Петербурге в ту пору Академия художеств объявила набор учеников. Василий страстно любил рисовать. У Миниха разрисовывал стены девичьей
яркими цветочками, и это нравилось девушкам, да и граф был приятно удивлен.
А в поместье Моркова иногда копировал картины, развешенные в парадных комнатах.
Крепостных в Академию не брали, но крепостники обходили этот параграф. И когда Вася рискнул попросить разрешения у Моркова, тот согласился, приписав в письме: «Если не оправдаешь средств, затраченных на твое обучение, будешь возмещать».
И Тропинин успевал выпекать торты, украшая их Аполлонами и Дианами, делать конфеты и заниматься живописью. Его талант и упорство были необыкновенны, — Тропинин стал одним из лучших учеников Академии, получая за свои работы первые номера и медали.
Но Морков отозвал его.
Снова генеральская усадьба. Кухня, прислуживание за столом, и — живопись, которой можно отдать свободный час. Василий Тропинин писал заказные портреты помещиков, а для души — крестьян в их редкие счастливые минуты. Кисть его постепенно набирала силу, портреты наполнялись живой кровью и плотью.
О Тропинине заговорили в округе, художник становился известным. Но горько было жить, затянутым в лакейскую ливрею! От нее Василия Андреевича избавил лишь случай, когда в усадьбу Моркова заглянул какой-то ученый иностранец, и генерал решил похвастаться своим художником. Увидев работы Тропинина, иностранец был поражен! Но еще больше его поразило, когда за обедом Василий Андреевич вышел с накрахмаленной салфеткой, перекинутой через руку. Недолго думая, иностранец подал Тропинину стул, смутив и сконфузив хозяина. С тех пор Василий Андреевич не служил за столом. А генерал Морков, когда-то предпочитавший Тропинина-кондитера Тропинину-художнику, стал вдруг ревностным ценителем искусства своего крепостного. За порчу картин Тропинина взыскивал даже с дочерей. Более того, стал заботиться о его здоровье.
Заказы сыпались на Василия Андреевича один за другим. От усталости он порой засыпал за работой. Но не портреты помещиков стали главной его заслугой, его славой, а портреты крепостных. Российское общество после победы над Наполеоном повернулось наконец лицом к своему народу, приветствуя жизненную правду изображения и сюжета. Тропининские сюжеты были незамысловаты, зато исполнены горячей любви к своей натуре и веры в высокое предназначение искусства.
Вот мальчик. Сын. Светло-золотистая головка, и взгляд, устремленный навстречу утреннему солнцу. Все в нем нараспашку, все — олицетворение свободы. Василий Андреевич писал с него портрет, а сын рвался на улицу.
|
|
«Портрет сына» Тропинин выставил в Москве, когда поехал в первопрестольную с генералом Морковым. И сразу стало понятно, что это один из шедевров русской живописи первой половины XIX века. Еще никто и никогда не писал так! Бесхитростно, простодушно, но при этом соблюдая точные правила живописи. Ценители таланта Тропинина потребовали у Моркова освободить художника. Судьба Василия Андреевича стала предметом разговора даже в высоких кругах. Был момент, когда граф Дмитриев, выиграв у Моркова в карты большую сумму, предложил ему простить карточный долг, если тот даст Тропинину вольную.
Дальше оставлять художника крепостным было нельзя, вокруг Моркова росло отчуждение. И он решился.
Освобождение своего крепостного он обставил очень торжественно. В Пасху, когда православные, христосуясь, целуются и дарят друг другу пасхальное яичко, Морков вручил Тропинину вольную, по которой, согласно закону, отпускалась и супруга художника. Но сына Морков не отпустил. (Семья воссоединилась только через пять лет, когда умер старый граф, а его наследники не решились продолжать постыдное издевательство над известным теперь уже всей России художником).
И все равно Тропинин был рад! Его уже не продадут, как живописца Григория Озерова за две тысячи рублей ассигнациями. Его работы не затеряются в глубокой провинции. Правду изрек архитектор Баженов: «Хотя появились прямые и великого духа российские художники, оказавшие свои дарования, но цену им не многие знают, и сии розы от терний зависти либо невежества глохнут». Такая участь Василию Андреевичу уже не грозила.
КРУЖЕВНИЦА
Морков хотел сохранить свое значение в жизни Тропинина, оставлял его жить в своем доме в Москве, где была мастерская, но Василий Андреевич наотрез отказался. Он поехал в Петербург и обратился в Академию художеств, хлопоча о получении звания художника. Звание было получено; само время уже было на стороне Тропинина. Зрело выступление декабристов на Сенатской площади, в просвещенных дворянских кругах больше не преклонялись перед чужеземным: ценили свое, живое, трогательное, на которое без всякого принуждения откликается сердце.
Через год Тропинин был удостоен звания академика живописи, с огромным волнением читая строки диплома:
«Санкт-Петербургская Императорская Академия художеств, властью ей от Самодержца данной, за оказанное Усердие и Познание в портретном художестве Василия Андреевича Тропинина Общим во избрании согласии признает и почитает Академиком своего Академического собрания.
Дан в Санкт-Петербурге в лето от Рождества Христова 1824-е октября 6-го дня».
Наконец-то окончательно завершилось прощание с крепостным прошлым! Нет больше Васьки, есть Василий Андреевич Тропинин, господин академик.
Тропинин занялся портретами. Это был заработок тяжелый: художник целиком зависел от заказчиков. Петербургские портретисты были очень недовольны успехами Тропинина, без стыда спрашивали его: «Скоро ли ты, братец, отсюда уедешь?» Да ему самому тяжело было там. Заказчики-вельможи спали до полудня, назначали время для сеансов и не являлись, а он должен был терпеливо ожидать в их гостиных. «В Петербурге очень долго спят, — печально иронизировал Василий Андреевич. — В Москве до первого часа уж вдоволь можно наработаться...» И уехал в Москву.
|
|
В Москве он снял квартиру вблизи Каменного моста, и жил теперь на средства, доставляемые ему собственной кистью. Уклад его жизни был прост, и было полное отсутствие искательности славы, жажды попасть в высокие круги. Он был искренен и благороден с каждым, не деля людей на сословия. Никогда не писал в дань моде. Однажды сказал на выставке, глядя на модную «нимфу»: «Что написал художник? Все блестит, все кидается в глаза, точно вывеска... Все и везде эффект, во всем ложь».
В Москве училища живописи еще не существовало, но был Художественный класс в доме на Мясницкой. Василий Андреевич приходил туда, интересовался занятиями юных живописцев, помогал им советами. «Лучший учитель — это природа, — наставлял он. — Нужно предаться ей всей душой, любить ее всем сердцем, и тогда сам человек сделается чище, нравственнее, и работа его будет спориться, и выходить лучше многих ученых работ».
В Тропинине было пронзительное ощущение родной земли, душевная слитность с ней. Все, что видел вокруг, что любил, он старался запечатлеть на холсте. Узнавая народ, все больше проникался его цельностью, чистотой, грацией, великодушием и мудростью. Радостный подъем охватывал художника, когда он писал портрет какой-нибудь дворовой девушки. «Простые люди — это лучшее, что мною писано», — говорил он. В его женских портретах нет громких слов и эффектных поз. В них — размеренная жизнь привычных будней. Женщина не позирует, а продолжает заниматься своими делами: плетет кружева, вышивает, поливает цветы.
Вот, к примеру, девушка кружевница. Лукавый, чуть любопытный взгляд брошен на кого-то, вошедшего в комнату; обнаженные за локоть руки остановились. все в ней светло и приветливо. Художник ничуть не льстит своей модели, она хороша такою, какая есть. И знатоки, и просто любители живописи были в восхищении, увидев на выставке «Кружевницу». «Она соединяет поистине все красоты живописного искусства: приятность кисти, правильное счастливое освещение, ясный колорит; а сверх того в сём портрете обнаруживается душа красавицы: кроткая и любящая».
Тропинин ввел в русскую живопись совершенно новый образ человека: в котором так ясен мир Божий. Его творчество по времени и характеру оказалось ближе всего к тому потоку реальной жизни, который хлынет в полотна последующего поколения русских художников.
ПОРТРЕТ А. С. ПУШКИНА
Александр Сергеевич Пушкин, шесть лет отбывавший ссылку «за вольнодумство, непозволительное поведение в обществе» и дружбу с политически неблагонадежными людьми, был возвращен в Москву 8 сентября 1826 года, в сопровождении фельдъегеря, «свободно, под надзором, не в виде арестанта».
Его возвращение было обставлено настолько таинственно, что Пушкин кинул в печь свои бумаги, когда в Михайловское прискакал военный человек с приказом срочно собираться в дорогу. Дружба поэта с декабристами ни для кого не являлась секретом: он не участвовал в тайном заговоре, но у каждого заговорщика были его стихи, — Александр Сергеевич был уверен, что его ожидает Сибирь.
В Москве Пушкина, сразу повезли к царю. «Я впервые увидел Пушкина, после моей коронации, когда его привезли из заключения ко мне в Москву совсем больного, — рассказывал Николай I. — Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге? — спросил я его, между прочим. — Стал бы в ряды мятежников, — отвечал он. На вопрос мой, переменился ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю, он очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул мне руку с обещанием сделаться другим».
Приезд Пушкина взволновал московскую общественность. Его имя повторялось повсюду; увидев его в театре или на улице, тотчас возле него собиралась толпа.
Время было тяжелое: после казни пятерых декабристов людьми овладели глубокая безнадежность и общий упадок духа. Одна лишь «звонкая и широкая песнь Пушкина звучала вольно; эта песнь продолжала эпоху прошлую, наполняла художественными звуками настоящее и посылала свой голос в будущее».
Александр Сергеевич привез с собой драму «Борис Годунов», поразившую тех, кому он читал ее, сильным национальным характером и глубиной постижения истории. Пушкин представлялся гением, ниспосланным оживить русскую словесность! Университетская молодежь обратилась к нему за поддержкой в желании иметь свой научно-литературный журнал, поэт горячо откликнулся, и с января 1827 года в первопрестольной стал выходить «Московский вестник».
Жил Пушкин в доме своего друга С. А. Соболевского, на Собачьей
площадке, куда на встречу с поэтом стекалась вся литературная Москва.
«Вот где болталось, смеялось, вралось и говорилось умно!» — вспоминал
|
|
Соболевский. Используя случай, он решил заказать Тропинину портрет Александра Сергеевича.
— Хотелось бы сохранить изображение поэта таким, как он есть. Пусть будет в домашнем халате, запросто. — попросил он.
Тропинин очень любил Пушкина. В своих произведениях Александр Сергеевич воспевал русское, близкое, простое. А сколько чудных картин русской природы описано Пушкиным!
Художник пришел к нему, предварительно уговорившись письменно, и застал поэта возившимся с датскими щенками. Быстрый поворот головы, блестящие, умные глаза — всё выразительность и подвижность! В этюде, который Тропинин написал по первому впечатлению, Александр Сергеевич предстал именно таким, каким был в действительности: художник уловил его подлинные черты.
Затем Тропинин сделал карандашный эскиз будущей картины. Горделиво взметнулась голова поэта. Задрапированная складками халата, фигура полна величия. Но Пушкин не царь-поэт, он близок каждому, и в легких штрихах тропининского карандаша нет холодности мрамора.
После нескольких сеансов портрет был выполнен маслом. «Сходство с подлинником удивительное! — восхищались современники. — Тропинин продумал детали до мельчайших подробностей: нет ничего нарочитого, ничего привнесенного художником. Даже перстни, украшающие пальцы Александра Сергеевича, выделены настолько, насколько придает им значение сам Пушкин. Не совсем совершенно схвачены только быстрота взгляда и живость выражения лица. Впрочем, физиономия Пушкина настолько изменчива, что трудно предположить, чтобы один его портрет мог дать о нем настоящее понятие».
Но странная судьба постигла портрет. Неизвестно кем он был подменен и пропал аж до 1856 года, когда его, по случаю, купил у кого-то князь М. А. Оболенский — известный московский собиратель и поклонник искусства Тропинина. Он принес художнику изрядно попорченное полотно и попросил восстановить его. Очень горько было Василию Андреевичу видеть свой вдохновенный труд в таком жалком виде! Но коснуться полотна, подновить его, он не посмел — слишком велико было его благоговение перед Пушкиным. Он только бережно вымыл портрет и покрыл лаком, говоря, что не может коснуться кистью того, что было написано в присутствии самого Александра Сергеевича.
История исчезновения портрета до сих пор загадочна.
ЖЕНЩИНА В ОКНЕ
Приезд в Москву художника К. П. Брюллова и его произведения сыграли большую роль в творчестве Тропинина. Он увидел, что можно быть более раскованным, сделать живопись более откровенной, и с жаром принялся за картину «Женщина в окне» по мотивам поэмы М. Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша», поставив себе задачу прославить женскую красоту в счастливую пору ее расцвета.
Еще безмолвен город сонный;
На окнах блещет утра свет;
Еще по улице мощеной
Не раздается стук карет...
Что ж казначейшу молодую
Так рано подняло?..
А то, что в заштатный Тамбов прибыл уланский полк! Художник изобразил этот момент с подкупающей естественностью. Молодая женщина чуть не вываливается из окна, «услыша ласковое ржанье желанных вороных коней». В ее глазах и любопытство и радость.
Между тем уланский полк преображает сонный Тамбов. Ежедневные танцы, гуляния, музыка, карточная игра, флирт. Происходит то, что и должно произойти: казначейша влюбляется в красавца ротмистра, а он — в нее. Старик казначей, у которого карты крапленые, приглашает уланов к себе домой, и, к ужасу, проигрывает ротмистру все свое состояние! Он просит позволения отыграться или уж проиграть и свою жену.
О страх! о ужас! о злодейство!
И как доныне казначейство
Еще терпеть его могло?
Всех будто варом обожгло.
Недолго битва продолжалась;
Улан отчаянно играл;
Над стариком судьба смеялась —
И жребий выпал... час настал...
|
|
Тогда Авдотья Николавна,
Встав с кресел, медленно и плавно
К столу в молчаньи подошла —
Но только цвет ее чела
Был страшно бледен. Обомлела
Толпа. — все ждут чего-нибудь —
Упреков, жалоб, слез... Ничуть!
Она на мужа посмотрела
И бросила ему в лицо
Свое венчальное кольцо.
После чего казначейша упала в обморок. Недолго раздумывая, счастливый ротмистр подхватил ее на руки и унес к себе на квартиру. А что же город? Да ничего. С недельку посудачили разные кумушки, на том и кончилось.
В этом женском портрете Тропинин впервые подошел к романтизму, который на долгие годы станет основной чертой московской художественной школы. В ряду духовных ценностей русского народа творчество Василия Андреевича Тропинина — теплое, светлое — займет такое же незыблемое место, какое в исторических судьбах Отечества занимает Московский Кремль — сердце России.
Карл Павлович Брюллов (1799 – 1852)
|
|
ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОЛДЕНЬ
Карл Брюллов родился в Петербурге, и способности к рисованию у него проявились рано. Сначала он воспитывался дома под суровым руководством отца, мастера художественной резьбы, получившего звание академика, потом поступил в Академию художеств, где быстро достиг выдающихся успехов. Уже один из первых его самостоятельных рисунков был удостоен серебряной медали и находился в классе как оригинал для копирования ученикам.
По окончании Академии Брюллов получил Большую золотую медаль за конкурсную работу «Явление Аврааму трех ангелов» и право на поездку в Италию. Со времен Петра I, пославшего живописца Ивана Никитина за границу усовершенствоваться в искусствах, это стало традицией.
Оказавшись в Италии, которую Брюллов знал по классическим произведениям, он был страшно разочарован: всеобщая космополитическая сутолока! Живопись не в моде — нового, живого движения в ней еще не происходило, а старое, все обращенное в древний мир, надоело. Древний мир теперь возрождали скульпторы и пользовались успехом и признанием.
К тому же совершенно чуждая природа, которая ничего не говорила художнику.
«...Вдалеке от Родины, от друзей, от всего, что делало счастливым в продолжение 23 лет. Ни сосенки, ни ивки. Хоть здесь растут лавры и вместо хмеля виноград — все мило, прелестно! — но без слов, молчат, и кажется всё вокруг умирающим», — писал он из Рима.
Карл Павлович начал сходиться с художниками-иностранцами, но это ничего ему не дало, они были солдатами того же войска, той же итальянской дисциплины, как и он, обученный ею в Петербургской Академии художеств. Но Брюллов обладал поразительной силой воображения, соединенного с тонкостью натурных наблюдений, его артистический темперамент требовал выхода. Появился замысел написать картину «Итальянское утро». Это оказалось не только удачной, но и счастливой находкой художника.
Молодая, обнаженная по пояс девушка, с пропорциями греческой богини, умывается под струями фонтана. Брюллов пронизал ее солнечными лучами, и она, воздушно-легкая, получилась как олицетворение самого утра человеческой жизни. «Я освещал модель на солнце, предположив освещение сзади, так что лицо и грудь в тени и рефлектируются от фонтана, освещенного солнцем, что делает все тени гораздо приятнее в сравнении с простым освещением из окна», — сообщал он Обществу поощрения художников, отправляя готовое полотно на выставку в Петербург.
«Итальянское утро» восхитило петербургских ценителей живописи. Город наполнился слухами о великолепной картине Брюллова, все спешили увидеть ее. Даже Александр I побывал на выставке и выразил свое удовольствие. Картина была ему подарена.
В 1826 году новый император России Николай I заказал Брюллову картину «под пару» «Итальянскому утру». Так явился на свет «Итальянский полдень», ставший высшим достижением Брюллова в группе работ, развивающих тему взаимодействия человека и природы. Моделью для «Полдня» послужила невысокая плотная женщина, далеко не классических пропорций, уже пережившая свою юность, но покорившая художника своей жизненной силой. Как отозвался о ней Гоголь: «Это женщина страстная, пылающая всей роскошью страсти, всем могуществом красоты».
Карл Павлович изобразил ее под виноградником в солнечном полуденном освещении. Зрелая красота героини подстать тугим виноградным гроздьям, — зенит дня, зенит жизни природы, пора созревания плодов — зенит человеческой жизни. В абрисе головы, плеч, рук, в румянце щек, блеске увлажненных глаз — прелесть и очарование. Солнечные лучи проникают через листву, скользят по женщине; создается впечатление живого момента, подсмотренного художником.
|
|
Естественной и грациозной получилась картина, но когда была выставлена в Петербурге, там случился переполох! Меценаты Брюллова (Академия и особенно Общество поощрения художников) ожидали античной богини, а увидели просто счастливую, здоровую женщину. Последовали обвинения автора в неправильном выборе натуры: «Целью художества должна быть избранная натура в изящнейшем виде, а изящные соразмерности не суть удел людей известного класса». Брюллов отвечал, что он решился искать разнообразия в тех формах натуры, которые чаще встречаются в повседневности: они притягательней, «нежели строгая красота статуй».
В отместку за дерзость Общество поощрения художников лишило Брюллова стипендии. К счастью, его мастерство к тому времени настолько окрепло, что он спокойно пошел своей дорогой, зарабатывая на жизнь заказными портретами. Он писал портреты итальянской знати, своих соотечественников, накапливал художественный опыт.
Между тем картина «Итальянский полдень» была приобретена Николаем I и вместе с «Итальянским утром» украсила в Зимнем дворце личные покои императрицы. Любой желающий мог их видеть. В «Дневнике» художника А.Н. Мокрицкого от 14 октября 1835 года есть запись, в которой он сообщает, что вместе с художником Венециановым посетил будуар императрицы и ознакомился с этими шедеврами живописи.
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ
В 1827 году Карл Павлович посетил Помпею. Прогулки по улицам и осмотр домов, сохранившихся под вулканическим пеплом со всей мебелью и утварью, увиденные отпечатки тел, застигнутых смертью в поразительно живых позах, навели художника на мысль написать картину о гибели Помпеи. Он внимательно изучил письма Плиния Младшего и узнал, что в 79 году нашей эры в области Кампания, расположенной на юге Италии, вдруг начались подземные толчки. Обнаружилось весьма странное явление: в городе Помпея перестала течь вода в фонтанах и как-то сразу опустели колодцы. 20 августа подземный гул стал слышнее, толчки усилились. Утром 24 августа произошел толчок небывалой мощи и последовавший за ним оглушительный грохот! Вершина вулкана Везувий раскололась на две части, и из образовавшегося жерла поднялся огненный столб. Это было началом катастрофы!
«Казалось, все не только движется, но и опрокидывается, — писал очевидец Плиний Младший. — Падали куски пемзы и черные, обожженные, растрескавшиеся от огня камни. Между тем по Везувию во многих местах широко разлилось пламя, и высоко поднялся огонь от пожаров. Мы видели, как море втягивается в себя же; земля, сотрясаясь, как бы отталкивала от себя; берег, несомненно, выдвигался вперед; много морских животных застряло на сухом песке. С другой стороны в черной страшной грозовой туче вспыхивали огненные зигзаги, и они раскалывались длинными полосами пламени, похожими на молнии, но гораздо большими. Стал падать пепел, пока еще редкий; оглянувшись, я увидел, как на нас надвигается густой мрак, который подобно потоку, разливался вслед за нами по земле. Наступила темнота. Но не такая, как в безлунную или в безоблачную ночь, а какая бывает в закрытом помещении, когда потушен огонь. Слышны были женские вопли, детский писк и крики мужчин; одни звали родителей, другие детей, третьи жен и мужей, силясь распознать их по голосам. Некоторые в страхе перед смертью молились. Но большинство кричало, что никаких богов нет, и что наступила для мира последняя ночь». Благодаря записям Плиния Младшего, успевшего спастись на корабле, люди через восемнадцать веков смогли живо представить случившееся с Помпеей. Следы ее были обнаружены во время строительства в этих местах водопровода. В течение двух с половиной веков Помпея постепенно освобождалась от семиметрового слоя пепла, превращенного раскаленным дождем в единую, плотную вулканическую массу.
Помпея стала городом-музеем, где есть форумы и амфитеатры, бани и мастерские, лавки и дома с утварью, но нет ни единой живой души. На месте погибшего города больше никогда не селились люди. Но те, кто когда- то населял его, любили жить удобно и красиво. Убранство каждого жилища, если оно не принадлежало рабу или бедному ремесленнику, выглядело богато и разнообразно. Многие дома украшали стенные росписи, фрески, мозаичные полы, картины. Помпея поклонялась грекам и их искусству. Религия тоже была греческая — Олимпийские боги, которые понемногу уже вытеснялись христианством. Фресковая живопись Помпеи была особой. Краски настенных росписей остались во всем их блеске и яркости, несмотря на огромную температуру вулканической массы, под которой в ночь катастрофы был погребен город. Это был секрет кампанской живописи, техника которой так и осталась неизвестной. Сохранился фресковый портрет задумавшейся о чем- то молодой девушки, с тетрадью из тонких дощечек в руке, с палочкой для писания. Портрет выполнен в форме медальона. Если римские скульптурные портреты первого века нашей эры сохранились во многих музеях мира, то живописный портрет до открытия Помпеи был не известен.
Два года Брюллов вынашивал замысел картины «Последний день Помпеи». Финансирование «проекта» взял на себя Демидов, крупнейший российский заводчик. Положив в основу действительное событие, Карл Павлович старался передать на холсте дух и атмосферу той страшной ночи. Молнии разверзли небеса, огнедышащая лава кипящим потоком низвергается по склону вулкана. Мечутся и ржут испуганные кони. С высоты падают статуи богов и императоров. Брюллову удалось придумать общую эффектную группировку, и он легко справился с колоссальной задачей. Он срисовывал одного натурщика за другим прямо на холст, и превосходно по перспективе выстраивал строго археологический пейзаж.

В Петербурге знали о картине Брюллова. Те, кто побывал в Риме, кому довелось видеть художника за работой, рассказывали, что он почти не отходит от холста, случается, обессилевшего, его выносят на руках из мастерской.
После одиннадцати месяцев беспрерывного труда, не считая двух лет подготовки, картина была окончена, мастерская открыта для публики, и публика повалила валом. «Помпея» поражала сюжетом, впечатляла декорациями и хоровыми массами, освещением и печальной судьбой действующих лиц. После Рима картина была показана в Париже. В Петербург она прибыла в 1834 году. Сам Карл Павлович уехал на Восток путешествовать.
Принес ты мирные трофеи
С собой в отеческую сень,
И стал «Последний день Помпеи» —
Для русской кисти первый день!
Стоял август. У подъезда императорской Академии художеств было не протолкнуться. Жаждущие с трудом пробирались в Античный зал, где висела «Помпея» — огромное полотно в тридцать квадратных метров. Решетка отделяла картину от публики. Конечно, зрители представляли, что увидят нечто колоссальное, но то, что увидели, превзошло все возможные ожидания.
|
|
Каждый ощущал себя одним из толпы охваченных ужасом помпеян. Чудилось, что слышен оглушительный гром, что земля колеблется под ногами, падает небо.
Чем дольше зрители всматривались в полотно, тем глубже постигали душу его создателя, его сопричастность к происходящему. Недаром Брюллов среди толпы помпеян, охваченной паникой, изобразил самого себя с ящиком красок и кистей на голове. А то, что он поместил на холсте отвратительного скрягу, собирающего даже в момент катастрофы, разбросанное по земле золото, еще сильней подчеркивало высокие человеческие качества художника.
Когда Брюллов приехал в Россию, он был провозглашен первым живописцем. Академия художеств присвоила ему звание младшего профессора (до старшего, прославленный на всю Европу мастер, «не дотянул»).
Вельможи наперебой торопились заполучить Брюллова к себе, но он не любил парадных званых обедов, говорил: «Лучше щей горшок да каша, зато дома, среди друзей». Однако, воспользовавшись расположением к нему высоких персон, выхлопотал вольную — освобождение от крепостной зависимости для двух учеников Академии. Известность Брюллова в России росла с неимоверной скоростью. Картина «Последний день Помпеи» во множестве копий и репродукций расходилась по стране. Случались даже курьезы. Так однажды, прогуливаясь с друзьями, художник увидел балаган с вывеской: «Панорама Последнего дня Помпеи». Зашел, и рассмеялся:
— «Помпея» никуда не годится!
На что содержательница балагана ответила с обидой и возмущением:
— Извините, сам художник Брюллов был у меня, когда панорама находилась в Париже!
Значение Брюллова было необъятно для его современников. Маститые живописцы, подстегнутые его мировой мгновенной известностью, рвались наперегонки создать вторую «Помпею», это стало их горячей мечтой. Умеренные юноши тоже порешили, что если им не дойти до самого Брюллова, то хотя бы попасть в его свиту. Но творчество Брюллова было завершением русского классицизма, дальнейший путь в этом направлении вел к бесплодному подражательству. «Помпея» от имени классицизма сказала всё, завершила классицизм с блеском, и в этом ее непреходящая ценность. Да и сам Карл Павлович не столько осознанно, сколько угадав, показал в картине сокрушение кумиров — статуй богов и цезарей, сопоставил жреца-язычника и христианского священника, живого младенца и мертвой матери. Все должно было внушить мысль о неотвратимости гибели старого мира и столь же неизбежной на его руинах новой жизни.
ВСАДНИЦА
Еще до работы над «Помпеей» Брюллов познакомился с первой красавицей Петербурга графиней Самойловой, переехавшей жить в Италию. Юлия Павловна — богатая наследница двух старинных родов — была независимого поведения, собирала у себя в Петербурге вольнодумствующих людей, и Николай I, недовольный ею, вынудил Самойлову покинуть Россию. Брюллов стал ее горячим поклонником с первой же встречи. И немудрено, если сам Пушкин посвятил Юлии Павловне стихи, восхваляя ее многочисленные достоинства:
Все в ней гармония, все диво,
Все выше мира и страстей...
|
|
Самойлова и Брюллов много путешествовали по Италии, отдыхали на озере Комо в роскошной вилле Юлии Павловны, бродили среди руин Помпеи, где и возникла у Брюллова идея написать картину о гибели города. (В «Последнем дне Помпеи» лицо Самойловой узнается сразу в нескольких женских образах: красавица, распростертая на земле; испуганная девушка; молодая мать, укрывающая младенца; женщина, обнимающая своих дочерей).
У Юлии Павловны были приемные дочери—Джованина и Амацилия. По ее просьбе Брюллов написал их портрет. На всем скаку Джованина останавливает коня. Амацилия, ухватившись за решетку балкона, восхищенно смотрит на нее. Брюллов изобразил Джованину так, как до него принято было изображать только титулованных особ. Конный портрет всегда был парадным и неизбежно содержал потаенный смысл: всадник, подчинивший себе горячего скакуна, — человек властвующий. Но у Брюллова — обычная девушка вернулась с обычной прогулки. Карл Павлович первым из живописцев соединил парадный портрет и бытовую сцену, создав вдохновенное полотно, воспевающее радость жизни.
В 1832 году «Всадница» была экспонирована в Риме и вызвала неподдельный восторг итальянцев. Написанная в натуральную величину, сочными красками, плавной и свободной кистью, она заставила итальянскую критику сравнивать Брюллова с Ван Дейком и Рубенсом. Похвалы итальянцев не были преувеличены, эта картина действительно явилась выдающимся произведением не только европейского, но и мирового искусства.
В 1896 году «Всадницу» приобрел Павел Михайлович Третьяков.
Портретной живописью Брюллов занимался всю свою жизнь, безоглядно переступая границы сложившихся традиций, стремясь приблизить искусство к действительности. Он желал воссоздать непосредственность и конкретность живых связей человека с окружающей средой, что являлось в его время задачей только жанриста. Писал с чувством, любуясь красотой и живописностью мира. Портреты Брюллова — большие парадные, импозантные, «сюжетные» портреты светских красавиц — явление в своем роде единственное и больше уже не повторявшееся в русском искусстве.
ГАДАЮЩАЯ СВЕТЛАНА
В 1835 году Карл Павлович познакомился с Василием Андреевичем Тропининым, чьи бесхитростные портреты дворовых девушек настолько ему понравились, что под их обаянием, а также под обаянием популярной в России баллады В. А. Жуковского «Светлана», Брюллов написал «Гадающую Светлану». Это тоже портрет дворовой девушки, гадающей в крещенскую ночь на своего суженого.
Святочные гадания были широко распространены на Руси. Девушки бросали валенок за ворота: в какую сторону укажет носок, оттуда и ждать жениха; лили в воду растопленный воск, фантазируя на остывших фигурках; кормили зернами курицу, загадав желание на конкретное число зерен. Способов гадания было много; все они сопровождались мистическими рассказами, породившими, в свою очередь, ряженых — сначала в виде нечистой силы, а затем уже кто и в кого вздумает обрядиться. Жуковский дал героине своей баллады необычное имя — Светлана, — что лучше всего подходило к «святкам» и «святости». Имя он позаимствовал из романса Востокова, — в реальной жизни такого имени не существовало. (Только после Октябрьской революции «Светлана» получило распространение в качестве личного имени). Обращение к теме крещенских гаданий стало ценнейшей литературной находкой Жуковского, сделав балладу подлинно русской. Строки из нее становились эпиграфами, баллада вошла в «Учебную книгу по российской словесности». Сформировалась дворянская модель празднования святок: произведение Жуковского заняло в дворянских семьях ту нишу, которую у крестьян занимали «страшные» святочные рассказы.
|
|
Подпершися локотком,
Чуть Светлана дышит...
Вот... легохонько замком
Кто-то стукнул, слышит;
Робко в зеркало глядит:
За ее плечами
Кто-то, чудилось, блестит
Яркими глазами...
Критика присвоила В. А. Жуковскому титул певца Светланы. Вторым певцом стал Брюллов, создав удивительное по своей романтичности полотно. Ночь, тусклая свеча, юная девушка в кокошнике и сарафане сидит у зеркала, вглядываясь с надеждой в его таинственную глубину.
Год промчался — вести нет;
Он ко мне не пишет;
Ах! а им лишь красен свет,
Им лишь сердце дышит...
Создавая картину, навеянную балладой Жуковского, художник не ограничился задачами простой иллюстрации. Сцену гадания он оживил поэтическим чувством. Как истинный новатор, счел возможным вторгнуться в душевный мир девушки, которая вся сосредоточена на мысли о своем женихе и готова сидеть перед зеркалом хоть всю ночь. В балладе Жуковского девушка засыпает перед зеркалом, видит ужасный сон, но утром уже все иначе:
Снег на солнышке блестит,
Пар алеет тонкий...
Чу!.. в дали пустой гремит
Колокольчик звонкий;
На дороге снежный прах;
Мчат, как будто на крылах,
Санки: кони рьяны;
Ближе; вот уж у ворот;
Статный гость к крыльцу идет...
Кто?.. Жених Светланы.
В портрете «Гадающая Светлана» Карл Павлович продолжил традицию русских художников с их обостренным вниманием к духовной жизни человека. И хотя портрет не оказал существенного влияния на русскую живопись, но его психологическую тенденцию можно проследить у всех больших мастеров: от Крамского и Перова до Серова и Врубеля.
Павел Андреевич Федотов (1815 - 1852) |

СВАТОВСТВО МАЙОРА
Отец Павла—солдат поротый, колотый, рубленый, стреляный пробился- таки в поручики, но последняя рана погнала в отставку. С женой турчанкой, вывезенной из молдавской кампании, он оказался в Москве, где поступил секретарем в Московскую управу благочиния. Куда делась экзотическая жена, не известно, но через четыре года Андрей Илларионович женился снова -- на купеческой вдове Наталье Алексеевне Калашниковой. Детей народили много.
От отца Павлу перешла бескомпромиссная честность, от матери — душевная отзывчивость и деликатность.
Неполных двенадцати лет родители отдали Павлушу в Московский кадетский корпус, на казенное обеспечение. «Меня судьба, отец и мать назначили маршировать», — говорил он впоследствии. Директор корпуса Кригер заявлял: «Русских надо менее учить, а более палкой бить!» Муштра была страшная. В этой машине, долженствующей сделать из Павла Федотова человека нужного государству, он пробыл семь лет. Пристрастился рисовать безобидные карикатуры на своих товарищей, -- сходство было сильное. Кроме того, он хорошо пел, играл на гитаре и скрипке, сочинял стихи.
Состоялся выпуск. Федотов окончил курс первым учеником, и, по заведенному обычаю, его имя было высечено на почетной мраморной доске. Павел Андреевич получил офицерское звание, погостил в родительском доме, а затем, согласно предписанию, отправился в Петербург в лейб-гвардии Финляндский полк.
Казалось бы, невелика разница: из одной казармы в другую; но жизнь была уже совсем иная. На все требовались деньги. На предвиденные и непредвиденные расходы, а в гвардии — во что бы то ни стало! — держать тон. Для «тона» был нужен хорошо обустроенный быт, собственный денщик, блестящий внешний вид. Офицерского жалованья на это никак не хватало, а деревенек с крепостными у Павла не было. Вот когда Федотов ощутил свою унизительную бедность! Он экономил на еде, душу отводил на стихотворных зарисовках. «Позубоскалили, отвели душу, и — легче».
В полку, кроме карандашных карикатур, Федотов писал портреты, причем в громадном количестве. Именно портретирование открыло ему ту радость, то неповторимое наслаждение, которое дает рисование с натуры: наслаждение зорко вглядываться в человека, сидящего перед тобой и переставшего быть просто твоим знакомцем — он уже обратился в некий мир, который надо постичь. Репутация полкового Рафаэля ласкала самолюбие Федотова, но ни к чему серьезному не обязывала. Чтобы вырваться из этого сладкого плена, он стал посещать вечерние классы Академии художеств. У него был талант, был и характер. Федотов взялся за дело серьезно.
Но молодость — это молодость. «Как румяны рассветы, как ясен свет дня — родилась на свет моя Катенька! На первом имени, каком я научился вдохновляться, душой стремиться, развиваться, то имя — Катенька! Ей, ей, за весь успех мой обязан. Сердце мое Катенька связала цепью сладкой!» Эту трогательную наивность Федотов сохранил до конца своих дней. Друзьям, даже близким, о любви своей ничего не говорил.
Головачевы были соседями Федотовых по Москве. Катя Головачева была на четыре года моложе Павла, он играл с ней, расчесывал кудри, на руках пытался носить. Когда уехал в Петербург, Головачевы вскоре тоже оказались там: родители Кати решили, что ей пора выходить в свет. Любовь началась, вроде бы шутя, играючи, но вскоре влюбленные уже не мыслили себя друг без друга. Предполагалось, что Головачевы уедут в Москву, но опять вернутся. И будущее Павла с Катей стало туманным.
Беспокойный был год. К счастью, Федотову дали четырехмесячный отпуск, и он выехал в Москву.
Дома — нищета. Но рядом — Катя! Встречи были ежедневны, разговоры нескончаемы. Положение обоим представлялось простым, и надо было только набраться терпения: сначала до следующей встречи, а потом, Бог даст, и до того момента, когда обстоятельства окажутся вполне благоприятными.
Я наряжу тебя в пышной фантазии
Лучше, чем жен своих деспоты Азии, —
Солнце пришью ко груди,
В косу — луну диадемой вверх рожками,
Старшие звезды — сережками, брошками...
Так мечталось Федотову, и об этом он писал Кате в стихах. Но Катина маменька строила совсем иные планы. Снова повезла дочь в Петербург — показывать свету и заманивать женихов. Федотов, по мнению маменьки, в мужья Кате не годился.
|
|
Что проку от мужа, у которого на руках многочисленное семейство, и он вынужден даже свое небольшое жалованье делить пополам — им и себе? Что за жизнь будет у Катеньки, когда каждый кусок, каждая ленточка на счету?
Катеньке был нужен только Павлуша! Однако мамушки, кумушки и свахи так заговорили бедную девушку, так напугали будущим, что ей стало страшно. Она согласилась выйти замуж за человека с более устойчивым материальным положением. Но как соглашалась! Картина «Сватовство майора», написанная Федотовым в 1848 году, лучше всего передает это. Родители сбывают дочку с рук. Невеста, как большая светлая птица (хотя, увы, не без жеманства, уже привитого светом), рвется к спасительной двери. В чертах невесты -- черты Катеньки Головачевой.
Свадьба Кати состоялась 9 ноября.
... Со вчерашнего дня
Ее нет для меня. —
Уж с другим под венцом
Поменялась кольцом;
Ему верною быть
Его нежно любить
Клятву Богу дала, —
Перед Богом лгала!
Для Федотова свадьба Кати рушила не только надежды на счастье, она рушила веру в разумность мира!
СВЕЖИЙ КАВАЛЕР
Громадный дар, отпущенный Федотову природой, рос с каждым днем. В 1844 году Павел Андреевич простился со своим полком, ибо совмещать военную службу с серьезными занятиями искусством было невозможно. Вместе с ним получил отставку и верный его слуга Аркадий Коршунов. Поселились они на Васильевском острове, в тесной квартирке.
Без сожаления круто изменил Федотов порядок своей жизни, целиком отдавшись живописи. С раннего утра Павел Андреевич усаживался за свои эскизы и этюды, кутаясь от холода в тулупчик. До друзей порой доходили слухи, что он работает утром, вечером, ночью, работает так, что «смотреть страшно».
Федотову виделась жизнь подобием гигантского муравейника: никто не живет по-настоящему, все играют заданные роли. Одним роль — пускать пыль в глаза; другим — с жиру беситься; третьим — прозябать, но ни в коем случае не признаваться в этом. Воплощая свои наблюдения в рисунках, картинах, он как бы отворял зрителю дверь в современную Россию.
На картине «Свежий кавалер» — промотавшийся дворянин, который получил третьестепенный орден. Но какая пропасть важности! С утра, с завитыми на газету волосами, толком не проспавшись после попойки, он надевает орден на засаленный халат и, хвастая перед служанкой, надувается, как индюк! Служанка не склонна им любоваться. Она насмешливо подает «благородию» брошенные им за дверью сапоги, а под столом — с муками пробуждается вчерашний собутыльник хозяина.
|
|
Картину «Свежий кавалер» Федотов отправил на суд своему кумиру Карлу Павловичу Брюллову. Через несколько дней был приглашен к нему.
Больной, бледный, мрачный сидел Брюллов в вольтеровском кресле.
— Что вас давно не видно? — был первый его вопрос.
— Я не смел беспокоить.
— Напротив, ваша картина доставила мне большое удовольствие, а, стало быть, и облегчение. И поздравляю вас, вы меня обогнали! Отчего вы никогда ничего не показывали?
— Я еще мало учился, я еще никого не копировал.
— Это-то, что не копировали, и счастье ваше! Вы открыли новое направление в живописи — социальную сатиру; подобных работ русское искусство до вас не знало.
Через год на Академической выставке Федотов представил несколько своих полотен, рисунков и сепий. Публика была ошеломлена! Обращение к совершенно новым темам, критическое отношение к действительности, новый творческий метод, -- Федотов поднял жанровую живопись до уровня социальной значимости! Совет Академии художеств единогласно признал Федотова академиком.
После Петербурга произведения Федотова были выставлены в Москве. Толпы зрителей стояли перед ними -- невиданными еще в русской живописи, целиком выхваченными из жизни, полными мысли и здорового юмора. Газеты и журналы затрубили художнику восторженную хвалу, сопоставляя его творчество с творчеством Гоголя. От аристократических московских гостиных до каморок рыночных торговцев -- только и разговоров было, что о работах Федотова.
В кругу художников на Федотова стали смотреть как на честь и гордость русской школы
ЗАВТРАК АРИСТОКРАТА
Однако вскоре отношение к творчеству Федотова резко переменилось. Критики стали усматривать в его произведениях «злобу и сатирическую насмешку над изображаемыми лицами». В прессе началась травля художника. Особенно старался журнал «Москвитянин», называя живопись Федотова «временной», заявляя, что ей «не может быть места в христианском обществе».
В результате у Федотова не стало заказов на рисунки. Гравюры с картин, чтобы растиражировать и продать, он делать не мог -- не разрешал цензурный комитет. Это очень сильно подействовало на умонастроение художника: мир не желал исправляться, напротив, он становился все непригляднее. И все же Павел Андреевич продолжал работать, находясь во власти своих замыслов. Иногда он рассказывал друзьям о темах будущих картин — и это были изумительные по мысли и вдохновению темы!
Между тем на душе было тревожно. Хорошо, что рядом находился Аркадий Коршунов. Золотой человек, истинный подарок судьбы! Хитроватый, ворчливый, экономный, предприимчивый, он являл собой простого русского человека в его лучшем виде. Он горячо проникся личностью своего хозяина, его интересами и заботами, и Федотов платил ему той же преданностью. Когда Коршунов заболел, Павел Андреевич, никогда не бравший денег в долг, впервые взял, чтобы выкупить дорогое лекарство.
Денег не хватало панически. Как-то раз Федотов в садике возле дома играл на гитаре. Любопытные прохожие останавливались, слушали, и скоро их набралось много. Федотов не замечал. Зато заметил Коршунов, и сразу сообразил, как извлечь из этого пользу. Он впустил зевак в садик: пусть слушают музыку хозяина, но чтобы дали за это денщику «на чай».
К обеду он подал Павлу Андреевичу хорошее вино и закуску. Федотов не был столь мечтателен и отрешен от жизни, чтобы не удивиться яству. Пришлось Коршунову выкладывать правду. Федотов прекратил посещение любителей его игры. Не помогли и ворчливые ссылки Коршунова на то, что именно он вытягивает хозяйство, и незачем барину командовать.
Стараясь поправить денежное положение, Павел Андреевич решил издавать иллюстрированный сатирический журнал. Однако первая же его попытка в этом направлении была пресечена правительством. В свою записную книжку художник внес горькие строки: «Я боюсь всего, остерегаюсь всего, никому не доверяю, как врагу...» Друзья предлагали ему жениться на богатой невесте, но он наотрез отказался. Сам же когда-то писал:
Как иные на чужой счет жуют:
Работать ленятся,
Так на богатых женятся.
Бедности он не стыдился; хуже — скрывать нужду. Как раз в это время появился фельетон И. А. Гончарова о богемной жизни, какую вела тогда вся золотая молодежь Петербурга, начиная с гвардейских офицеров.
Аристократическое нищенство! Затейливые похождения, широкие жесты, швыряние денег на удовольствия, карты, постоянное вранье о получении большого наследства. И огромные займы под явную неуплату. «А пробовал ли ты нечаянно приезжать к таким людям домой и заставать их врасплох?» — спрашивал Гончаров, зная, что эта «богема» порой не имеет даже обычного куска хлеба.
Федотов тоже не раз вышучивал жизнь напоказ. Под впечатлением фельетона он начал картину «Завтрак аристократа». Изобразил момент, когда хозяин сидит в роскошно-показном интерьере, но, услышав шаги незваного гостя, прячет кусок черного хлеба, составлявший весь его завтрак. Смешно и нелепо выглядит рядом с «аристократическим завтраком» реклама устриц, оставленная, как бы случайно, на стуле.
|
|
Картина не несет сатирического оттенка, она иронична. Аристократическое нищенство было порождением широкой русской натуры. Среди нищих аристократов имелись и друзья художника: офицеры, писатели, живописцы, — безалаберные и бескорыстные. Федотов работал над картиной без напряжения -- что дало ему некоторую передышку: организм словно готовил его к чему-то высокому, сложному, где будут нужны и нервы и силы.
АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!
Родные из Москвы писали Павлу Андреевичу о своем бедственном положении: у сестры умер муж, осталась одна с маленькими детьми; отцу шел девятый десяток. Необходимо было что-то предпринимать, и в отчаянии Федотов принялся копировать собственные картины для продажи. Это было легче, чем писать новые: не приходилось обдумывать сюжет, не спать по ночам в поисках творческого решения. Но копии отнимали драгоценное время, и художник решился на то, на что всё еще не решался: продать «Сватовство майора» генералу Прянишникову, который давно хотел иметь ее у себя.
Генерал, пользуясь безвыходностью художника, выторговал «Сватовство майора» за полцены, и от этой сделки у Федотова появилось уже ощущение полной беспросветности. Написал в своей тетрадке:
Всё план за планом в голове...
Но жребий рушит эти планы...
О, не одна нам жизнь, а две
И суждены, и даны.
А тут еще знакомый по офицерскому корпусу рассказал, что всю зиму промаялся в деревенской глуши. В избах — по двое, трое. Графин водки, постепенно осушаемый за день, вечерние сборища поочередно друг у друга или у полкового командира — с картами, ромом, от которого наутро нестерпимо болит голова. Пустая болтовня, пересказывание былей и небылиц, пьяные забавы, кровавые стычки, — монотонность повторяемых будней делается постепенно кошмаром, гибнет человеческая душа, обреченная на ничто.
Под впечатлением этого рассказа Федотов взялся за картину «Анкор, еще анкор!» Представил зрителю два мира одновременно. В одном — огонек из соседнего дома, торжественный покой зимней ночи, в другом -- зловещая прокуренная каморка с пьяным офицером, гоняющим несчастного пса, и безысходность скуки. Горящие краски превратили каморку в преисподнюю, где в тоске мается человек, не менее несчастный, чем загнанная собака.
|
|
Такой силы социального обличения, такой остроты критической мысли Федотов раньше не достигал. Во всей мировой живописи нет другой картины, в которой были бы показаны глубочайшая тоска и бесполезность жизни, способные довести человека до сумасшествия.
«А я похож на этого бедного пуделя, — думал художник. — “Анкор, еще анкор!” — говорит мне судьба, и я покорно принимаюсь перепрыгивать через очередное препятствие. Как я устал!..»
Замах был слишком велик. Федотов далеко обогнал своих современников, шагнув в искусство сразу ХХ века. Он совершил слишком много для человека, у которого только одна голова, одна пара рук и одна жизнь. Кроме того, «Федотов был явлением. неожиданным и единым. Когда он. «стал угрожать», на него восстали, и он был раздавлен»./p>
118 ноября 1852 года денщик Федотова Коршунов проводил Павла Андреевича до самой могилы на Смоленском кладбище, безутешно рыдал, а затем сгинул неизвестно куда.
Иван Константинович Айвазовский (1817 - 1900)

ВЕНЕЦИЯ
Семья Гайвазовских жила в Феодосии в армянской слободке, и оттуда виднелось море. Это море стало самым любимым для Ованеса. Он смотрел на утлые лодки и торговые корабли, и когда немного подрос, то рисовал их самоварным углем на заборах.
Случилось, что рисунки мальчика увидел городской архитектор Яков Христианович Кох. Пораженный его художественными способностями, он купил Ованесу кисти и краски, преподал несколько уроков по живописи, и рассказал об одаренном парнишке градоначальнику Феодосии Казначееву.
Попечительством Казначеева Ованес был устроен в феодосийское трехклассное училище, а затем в Симферопольскую гимназию. Окончив ее, он отправился в Петербург, поступил в Академию художеств, и вскоре стал одним из лучших ее учеников.
В ту пору в северной столице блистал некий живописец из Франции.
Малоодаренный, но широко известный благодаря шумихе, поднятой вокруг него друзьями и соотечественниками. Не справляясь с большим количеством заказов, француз взял в помощники Гайвазовского. Но подмастерье оказался сильнее его. Завидуя таланту Ованеса, француз наклеветал на него царю, и для юноши настали черные дни. Больше полугода тяготела над ним царская немилость. Те, кто раньше хвалил Ованеса, теперь заявляли, что знать ничего не знают и никогда не видели его работ.
Однако француз к той поре совершенно зазнался, стал дерзок даже с лицами близкими ко двору, и Николай I велел ему покинуть Россию. Прошло несколько дней, и царская опала для Гайвазовского кончилась.
А вскоре последовало распоряжение: академисту Гайвазовскому сопровождать великого князя Константина в первом практическом плавании по Финскому заливу.
Ованес вступил на палубу корабля. Сердце его радостно билось: до этого он только с берега любовался фрегатами. Во время плавания молодой художник смог по-настоящему оценить красоту Балтики. Даже в серые облачные дни невозможно было оторваться от созерцания своенравного моря!
Экипаж корабля скоро полюбил его, матросы охотно слушали его рассказы о родной Феодосии, офицеры учили Ованеса разбираться в устройстве корабля — их удивляло, как быстро юноша постигает эту сложную науку. Нравилась экипажу и неустрашимость Ованеса: во время штормов он не прятался в каюте, а оставался на палубе и делил с командой все опасности.
В 1837 году Ованес получил Большую золотую медаль за картину «Штиль» и право на длительную поездку в Крым, а затем — в Европу. Вернувшись в Феодосию, он по утрам уходил к морю, много писал, и неутомимо боролся за солнце на своих картинах.
В Феодосии бросали якоря боевые корабли Черноморского флота, и однажды генерал Раевский — начальник Черноморской береговой линии — пригласил Гайвазовского отправиться с ним на Кавказ наблюдать боевые действия. Во время похода русским пришлось вступить в серьезный бой у Субаши. Отвага и смелость Гайвазовского, проявленные в боевой обстановке, вызвали к нему симпатию моряков, и соответственный отклик в Петербурге.
В июле 1840 года Гайвазовский отправился в Италию. Первой на пути странствования художника была Венеция — город, построенный в XII веке на четырехстах тысячах сваях из прикамской лиственницы. Итальянский историк писал о Венеции: «Благополучие ее населения обеспечивается всемирной торговлей и прочностью свайных сооружений города на островах — пермскими карагаями».
В Венеции находился армянский монастырь святого Лазаря, где жил брат Ованеса — Саргис (в монашестве Габриэл), которого мальчиком увезли из Феодосии. В монастыре он изучал восточные языки, историю и богословие. Наставники гордились им.
|
|
Прибыв в Венецию, Ованес первым делом поехал к брату. Когда добрался до монастыря, старый монах-армянин проводил художника в келью Саргиса, и Ованес увидел худощавого молодого человека с бледным лицом затворника, редко выходящего из помещения. Стол в келье был завален книгами, старинными рукописями. Ованес озирался, ощущая невыносимую боль в сердце. Но брат- монах смотрел на него спокойно, расспрашивал о родных бесстрастно, голос его ни разу не прервался волнением.
Ованеса оставили ночевать в монастыре. В ту ночь, проведенную без сна, он почувствовал, как что-то оборвалось в его жизни и выпало из нее. Перед глазами возникал родительский дом, нужда, в которой проходило детство. Это из-за нее отец и мать отдали Саргиса в монастырь, а его, Ованеса, на побегушки в феодосийскую кофейню. Только участие Казначеева помогло Ованесу избегнуть той пропасти, куда толкала жизнь. Ованес тихо плакал, он оплакивал брата, друга детских игр, шаловливого выдумщика, для которого теперь вся жизнь была в келье.
Утром брат сказал Ованесу, что с некоторых пор ему стало казаться странным, что фамилия Гайвазовский больше напоминает польскую фамилию, нежели армянскую. Изучая старинные книги и рукописи, он узнал, что после разгрома турками древнего армянского государства и его столицы Ани, десятки тысяч армян спаслись от преследований в других странах, в том числе в Польше. Настоящая фамилия Гайвазовских -- Айвазян, но среди поляков постепенно обрела польское звучание — Гайвазовский.
Ованес с тех пор стал подписывать свои картины — Айвазовский. А так как его чаще называли не Ованесом, а Иваном, стал писать -- Иван Айвазовский.
В Венеции он написал несколько этюдов, и через два года приступил к картине «Венеция», которая стала напоминанием о печальной встрече с братом.
НАВАРИНСКИЙ БОЙ
В жизни Айвазовского началась пора беспрерывных странствий. В Европе он стремился увидеть все новые и новые приморские города, гавани, порты. Он много писал, его картины выставлялись во Франции, Англии, имели громадный успех, и кое-кто поговаривал, что Айвазовский вероятно в Россию уже не вернется.
Но он вернулся.
В Петербурге Иван Константинович получил заказ от Морского министерства написать картины всех русских военных портов на Балтийском море. По исполнении этого сложного заказа ему присвоили почетное звание художника Главного морского штаба с правом носить адмиральский мундир. Однако к весне 1845 года художник затосковал по родной Феодосии. Ничто не могло удержать его в столице: ни росшая с каждым днем слава, ни обеспеченный заработок, ни всеобщее внимание и предупредительность.
Вернувшись домой, Иван Константинович построил на окраине Феодосии дом с мастерской, и с тех пор постоянно жил и работал в любимом городе.
В 1848 году художник окончил картину «Наваринский бой», помня, как ребенком еще уносился мыслью в далекую сражающуюся за свою свободу Грецию. Тогда в Феодосии только и говорили что об этой маленькой, но героической стране: и моряки, и торговцы на базарах.
Бои за освобождение Греции, и ее захват велись с 1770 года с временной переменой успеха сторон. В ноябре 1822 года город Мисолунги был осажден 11-тысячной турецкой армией Омара-паши. Оборону вел небольшой греческий гарнизон, и за пределами Греции многие уже не верили в возможность возвратить эту цветущую страну законным наследникам Гомера и Фемистокла.
Однако гарнизон оборонялся с таким мужеством, что по истечении трех месяцев Омару-паше пришлось снять осаду. В мае 1825 года Мисолунги вновь был осажден турками. Вновь упорно оборонялся силами гарнизона и местных жителей. Успехи Омара-паши были столь незначительны, что пришлось обратиться за помощью к египетской армии. Но и тогда лишь через три месяца город был взят штурмом.
Героическая оборона Мисолунги вызвала широкий международный резонанс. Англия, Франция и Россия послали помощь. 20 октября 1827 года союзные эскадры, насчитывающие в общей сложности 27 кораблей, начали сражение в Наваринской бухте. Русские корабли находились в центре позиции, принимая на себя основные удары турецко-египетских сил. Корабль «Азов» первым вступил в сражение против пяти неприятельских кораблей, получив в ответ град ударов. Моряки задыхались в дыму и пламени, но обливались водой и снова бросались к пушкам. После меткого выстрела на одном из вражеских кораблей переломилась грот-мачта. Почти одновременно снаряд с «Азова» попал в крюйт-камеру другого турецкого корабля, и тот мгновенно взлетел на воздух. Но и сам «Азов» был изранен. И все же его моряки пустили ко дну еще одно турецкое судно. Сражение длилось четыре часа.
|
|
Русские уничтожили большую часть турецкого флота.
Весь русский народ в те дни повторял два имени — корабля «Азов» и его командира Лазарева! За свой подвиг Михаил Петрович Лазарев получил звание контр-адмирала, а корабль «Азов» был отмечен высшей наградой: впервые за всю историю русского флота кораблю вручили кормовой флаг со знаменем Святого Георгия.
В 1829 году Греция стала независимой.
На своей картине Иван Константинович изобразил битву «Азова» с фрегатом Тахира-паши. «Азов» сильно поврежден, однако художник всем строем композиции показал наступательный порыв русской эскадры, не оставляя никакого сомнения в исходе баталии.
Наваринское сражение — последнее в истории деревянного парусного флота. Много героических сражений в летописи русского флота, но Наваринское — самая величественная страница. Это был самоотверженный подвиг во имя свободы другой — порабощенной — страны.
ДЕВЯТЫЙ ВАЛ
Море внушало Айвазовскому безграничное восхищение. Он артистично передавал игру волн, эффекты освещения, разнообразные состояния атмосферы. Он создавал свои картины на совершенно новой творческой основе: не с натуры, а исключительно по памяти, превосходно зная, как образуется волна в зависимости от состояния погоды, влияния ветра, внутренних сил водной массы, облаков и солнца.
Маринистов уровня Айвазовского за всю историю живописи мир знал не больше десяти, и все же на Западе многие не признавали его дара. «Странную, непрестанную борьбу ведет посредственность с теми, кто ее превосходит!» — возмущался Бальзак.
В высокой феодосийской мастерской художника не было больших окон, из которых он мог бы наблюдать море и небо. Свет проникал через узкие оконца, расположенные под самым потолком. Это было сделано специально — для того, чтобы не отвлекаться от работы, храня в своем сознании образ заранее продуманный. «Писать молнию, порыв ветра, всплеск волны — немыслимо с натуры, — говорил Иван Константинович. — Художник должен запоминать их. Сюжет картины слагается у меня в памяти, как у поэта; сделав набросок на клочке бумаги, я приступаю к работе, и до тех пор не отхожу от полотна, пока не выскажусь на нем кистью».
Однажды пришло в Феодосию торговое итальянское судно, капитан которого был давним приятелем Айвазовского. Он привез художнику подарки, и рассказал, что революционные батальоны Италии под командованием Гарибальди воюют с Австрией за полную политическую и национальную независимость родины. Множество добровольцев из разных стран примкнуло к гарибальдийцам, есть среди них и русские.
После отъезда капитана Иван Константинович заперся в своей мастерской. Сидел в кресле, закрыв глаза, и со стороны могло показаться, что он спит. Однако мысль его работала. Вставало в памяти детство: он с другими мальчишками помогает рыбакам выгружать серебристую, трепещущую рыбу. Во время отдыха рыбаки рассказывают о страшных бурях на море, о кораблекрушениях. Вспоминалось, как в Бискайском заливе корабль, на котором плыл Айвазовский, попал в жестокий шторм. Все пассажиры тогда обезумели от страха, он тоже испытывал сильный страх, но держался рядом с капитаном. Чудом они добрались до Лиссабонской гавани.
Вспомнилась буря в Финском заливе: люди на хрупкой скорлупке -- как иначе назвать рыбачий баркас среди волн? — боролись со стихией.
|
|
Когда Айвазовский, наконец, открыл глаза, руки его сами потянулись к палитре и кисти.
Над бушующим океаном встает солнце. Его лучи открывают настежь ярко- алые ворота в грядущий день. И теперь только стало возможно разглядеть все, что недавно скрывал мрак. Еще вздымаются гребни яростных волн. Одна из них самая страшная — ее называют девятым валом. С бешеной силой и гневом она вот-вот обрушится на потерпевших крушение, а усталые измученные люди судорожно вцепились в обломки мачты. — выдержать, выдержать!
На полотнах Айвазовского прежде были сцены тщетной борьбы человека со стихией. Огромные волны вовлекали людей в бездонную пучину, губили последние надежды, а немногие оставшиеся в живых вместе с жалкими обломками корабля безжалостно вышвыривались на прибрежные утесы. Грозным и роковым было его море!
Теперь же всё обстояло иначе. Свет, солнце вступили в союз с людской волей. Буря еще напрягает свои уставшие за ночь мышцы, но вот-вот — и пройдет последний, девятый, вал.
В этой картине заключалась вера в победу гарибальдийцев. И когда полотно было выставлено, зрителей восхитил не только вложенный в него смысл, но и непревзойденный талант художника: море заполнило полотно до краев; казалось, вот-вот — и вода выплеснется, хлынет в гулкие и просторные залы.
СРЕДИ ВОЛН
Более шестидесяти лет изо дня в день Иван Константинович вставал к мольберту. Писал не только море: украинские степи, поросшие седым ковылем, чумацкие возы на крымских дорогах, прибрежные города и гавани. На деньги, заработанные собственным трудом, украсил родную Феодосию фонтаном, провел водопровод, хлопотал о строительстве железнодорожной ветки.
В 1899 году Россия готовилась отмечать 100-летие со дня рождения Пушкина. Московский Исторический музей обратился к Айвазовскому с просьбой написать картину, где был бы изображен поэт, поскольку Айвазовский знал его лично. И Иван Константинович вновь пережил ту первую встречу с поэтом, случившуюся в Петербурге на академической выставке 1836 года. «Вы южанин, но великолепно передаете краски севера», — похвалил Александр Сергеевич его работу «Чухонцы на берегу Финского залива». Что с ним творилось! Сам Пушкин похвалил.
Они потом не раз встречались: юный академист и великий поэт, и всегда Александр Сергеевич был к нему ласков.
Когда Пушкина смертельно ранили на дуэли, горе Ованеса не знало границ. У дома на Мойке, где умирал Пушкин, Ованеса стискивала толпа, с такой же надеждой, как и он, ожидающая, что поэт поправится. Переминались с ноги на ногу, прислушивались к каждому слову, произносимому о поэте... В тот день Ованес отморозил ноги.
Двадцать девятого января в два часа сорок пять минут пополудни Александр Сергеевич скончался. После стольких надежд, пусть зыбких, такой удар был непереносим! Из-за отмороженных ног Ованес не мог пойти проститься с ним. Тогда приятель достал салазки и в салазках повез Ованеса через Неву к дому поэта.
|
|
Айвазовский боготворил Пушкина! Не расставался с его книгами. В них с возрастом еще сильнее открывались ясность и гармония, вечная хвала природе и жизни. К пятидесятилетию со дня гибели поэта Иван Константинович
в содружестве с художником Репиным написал картину «Пушкин у моря». Это одно из самых значительных полотен о Пушкине.
Письмо, полученное от Исторического музея, напомнило художнику, что человеческая жизнь имеет свои пределы, что время идет безостановочно, а он еще не осуществил всех замыслов, когда в мечтах являлись очертания будущих картин о поэте.
В тот же день Айвазовский натянул на подрамник колоссальных размеров холст. Он воплотит море по-пушкински! Взошел на высокий помост. Картина будет называться «Среди волн». Писал по вдохновению, без заготовленных этюдов.
Вот уже и холст разделен на две части: вверху темное грозовое небо, а под ним — бушующее море. Вот и центр, где, как в воронке, кипит первозданный хаос, из которого вздымаются две волны.
Прощай же, море!
Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.
В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы
И блеск, и тень, и говор волн.
Послушная кисть не прекращала своего бега по холсту, но дух художника находился среди волн, любовался кипящим круговоротом прозрачных валов, игрой зеленовато-голубых и сиреневых тонов. Это они звучали аккордом: «Он был, о море, твой певец!»
Слух о том, что Айвазовский за десять дней написал колоссальную картину, быстро распространился по Крымскому полуострову. К Айвазовскому устремились живописцы и копиисты из Симферополя, Ялты, Севастополя. Едва увидев огромное полотно, каждый из них понимал, что для создания такой картины требуется целая жизнь.
Картина «Среди волн» обрела свое жилище в галерее Айвазовского. Никуда она не будет отправлена отсюда до конца жизни художника, а затем, по завещанию, перейдет вместе с галереей в собственность Феодосии.
. А в мастерской рождались новые картины: «Пушкин у Гурзуфских скал», «Пушкин на вершине Ай-Петри при восходе солнца»... Айвазовский отдавал свою дань поэту.
Алексей Кондратьевич Саврасов (1830 — 1897)

ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ
Это произошло совершенно неожиданно. Секретарь Совета Московского художественного Общества господин Сабоцинский вдруг пригласил к себе Саврасова и сказал:
— Дорогой Алексей Кондратьевич, вы преподаете в Училище живописи, но вот уже несколько лет ваш класс почти пуст. Вследствие этого принято решение лишить вас квартиры, которая была предоставлена вам Училищем. Квартира будет отдана другому преподавателю. Он уже подал соответственное прошение.
Саврасов был ошеломлен! Он десять лет занимал с семьей казенную квартиру, и теперь ему отказано в жилье!
Да, последние годы в его классе занимается не более пяти человек, но не он виноват: таланты не планируются, они — рождаются; придет время, и число учеников возрастет. И если его так бесцеремонно лишают квартиры, значит, администрация Училища просто не заинтересована в нем как в педагоге.
Это был сильный удар. Первый после стольких лет внешне благополучной жизни. В «большом доме», где были преподавательские квартиры, все жили как одна семья, и теперь Саврасов выпадал из этого профессионального содружества, становился каким-то изгоем. Было обидно и унизительно!
Алексей Кондратьевич подал в Совет прошение о длительном отпуске: «Имею частное поручение выполнить рисунки и картины зимнего пейзажа на Волге, покорнейше прошу Совет уволить меня со службы на пять месяцев».
«Зимний пейзаж на Волге» было отговоркой, настолько беспомощной, что придумать ее мог только кроткий, стеснительный Саврасов. Все понимали: художник бежит из Москвы.
Он покинул Москву вместе с женой и двумя дочерьми. Ехали поездом по недавно открытой Московско-Ярославской железной дороге. За окном тянулись заснеженные поля и леса. Чего только не передумал Алексей Кондратьевич за этот путь, чего не вспомнил! Всю жизнь свою переворошил.
Он родился в московской купеческой семье. Отец хотел сделать из него купца, но Алеша таких разговоров избегал. Краски! Вот что было нужно ему.
Отец всеми силами выкорчевывал из сына пристрастие к рисованию, на холодный чердак запирал: рисуй, морозься, коли невтерпеж! И Алеша рисовал.
За пейзажики, пользовавшиеся спросом у торговцев пирогами и сбитнем, лавочник платил ему 6 рублей за дюжину — деньги большие. Алеша хоть этим старался смягчить отца.
А отец, наоборот, надеялся сломить упрямство сына, хоть внутреннее чутье подсказывало ему, что непутевый отрок не бросит своего занятия.
Алексей поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества.
В классах Алеше открывалось много нового, важного, такого, о чем он и не подозревал, но при всем том Училище его не удовлетворяло. Он уже владел большим душевным багажом, а его познания оставались почти не тронутыми: слишком далека была академическая школа от каждодневного бытия, от живой природы.
Алексей чувствовал удовлетворение лишь тогда, когда задавали писать с натуры. Тут он мог развернуться во всю широту, вкладывая трепетную любовь к самому простому кустику, ручью, овражку.
В мае 1854 года Училище посетила президент Академии художеств великая княгиня Мария Николаевна. Посмотрев выставку работ художников и учеников, лестно отозвавшись о тех и других, она приобрела несколько картин, в том числе две картины Саврасова.
Спустя некоторое время, пришел высочайший приказ явиться Алексею Саврасову на дачу княгини, писать виды под Петергофом. Из всех учеников и молодых художников — единственному.
Мария Николаевна встретила его приветливо. Сумела за непринужденностью и простотой обращения не дать почувствовать бесконечнуюдистанцию между ними. Спросила Саврасова, как он думает устраивать свое будущее? Для художника настала решительная минута, от которой зависела его судьба.
— Хочу возвратиться в Москву, — ответил он просто и искренне.
Великую княгиню несколько озадачили его слова: Саврасову нетрудно было догадаться, что она, президент Академии, желает покровительствовать ему.
Что ж, пусть поступает, как знает, она не смеет стеснять его свободы.
Саврасов написал на даче великой княгини две картины. Обе были показаны на годичной выставке в Академии, и двадцатичетырехлетний художник был удостоен звания академика. В Москве ему предложили место преподавателя в Училище, и вскоре он вошел в пейзажный класс как педагог.
— Молодо, свежо. — рассматривал работы воспитанников. — А вот тут замучено, старались очень. Не надо стараться, муза не любит, возвышайтесь чувством. А вот тут подражательно. Надо идти своей дорогой, делать на свой лад, по своему разумению.
Алексей Кондратьевич чувствовал себя не столько педагогом, сколько старшим товарищем, художником с большим опытом. Большой ростом, сильный и мощный, он казался ученикам добрым доктором. Никогда не сердился, говорил застенчиво, робко, словно стесняясь.
Ученики угадывали, что он живет в каком-то другом мире. «В Саврасове была таинственная даль чего-то желанного, радостного, неведомого, как райское счастье.» — вспоминал Константин Коровин.
В 1862 году Алексей Кондратьевич совершил длительное путешествие за границу и опечалился, что русское искусство на Лондонской выставке почти не было представлено, хоть Лондонская выставка звала всех прислать образцы художеств за последние сто лет.
Сто лет! А у России явилась вдруг удивительная робость, неимоверная трусливость перед приговором будущей публики. В России наперед уже надрожались от страха, что всё у себя дома плохо и недостойно. И вот вывод: собирается вся Европа смотреть созданное в последние сто лет, узнать, оценить, взвесить — а Россия ей представила только то, что насовали личные интересы да пропустило холодное равнодушие. «Неужто в русском искусстве столь самобытном, столь разнообразном, нечего было показать европейскому зрителю? — негодовал Саврасов. — Отвергнуто все, что составляет славу и гордость отечественной живописи, отвергнуто из пренебрежительного отношения к национальным сокровищам, из-за чиновничьей ограниченности и раболепия перед всем иностранным!»
Из этого путешествия Алексей Кондратьевич извлек для себя следующее: сила познания и сила самобытности — главное в искусстве. Таким и вернулся в Москву. Говорил ученикам:
— Нужно изучать великие творения прошлого, но не подражать им, не копировать. Если ты русский, родился и вырос в отчем краю, то и работы твои должны напоминать о России, должны быть пропитаны ее духом. Она заслуживает этого.
В Училище Саврасов чувствовал недоброжелательность к себе. То ли зависть была к тому, что его любили ученики, то ли непонимание его творчества. Он уже пятнадцать лет руководил пейзажным классом, но все еще оставался младшим преподавателем.
А теперь вот выкинули из квартиры; и едет он, сам не зная куда, и не знает, что будет с ним и его семьей.
Беспокойство оказалось напрасным, Саврасовы устроились в Ярославле хорошо, хотя и не без хлопот. Московские неприятности остались позади, и не хотелось о них вспоминать. Только ученики будоражили душу Алексея Кондратьевича: как они там?
Третьяков в письмах советовал ему вернуться в Москву, выражал искреннее желание помочь, но Саврасов не мог этого сделать: требовалось время, чтобы забыть пережитое унижение.
В феврале у Саврасовых родилась дочь. Очень слабенькая. Через несколько дней умерла. Очевидно, как ни хороши были новые условия, но пережитое в Москве отразилось на состоянии здоровья Софьи Карловны, жены Саврасова.
Горько было супругам, жизнь словно решила мстить за прежний покой. Саврасов смотрел на измученное лицо жены и не знал, чем помочь, чем ответить ее вопрошающему взгляду.
С началом весны сказал Софье Карловне:
— Поеду в деревенскую глушь, поработаю над весенними этюдами.
Она поняла: ему нужно восстановить силы. Когда он писал, он забывал о жизненных передрягах, все внешнее отлетало куда-то, он думал лишь о картине, и окружающий мир для него временно переставал существовать.
Саврасов поехал на север Костромской губернии. Железнодорожной ветки от Ярославля до Костромы еще не было, Алексей Кондратьевич ехал в санях по почтовому тракту. Наезженная дорога темнела среди уныло-однообразных снежных полей, едва пробуждающихся от зимнего оцепенения. Но зато как легко и свободно дышалось весенним воздухом!
— Что, барин, по службе или надобности? — поинтересовался у Саврасова извозчик.
— Я художник. Буду писать картины.
— А что на них будет, на этих картинах-то?
— Да вот, будет, как снег тает, как птицы гнезда вьют, как небо становится будто синька...
— А для чего, барин? Это нам и так известно, привыкли. За весной — лето, за летом осень.
Из Костромы Саврасов поехал в село Молвитино. Большое село со старенькой церковью на окраине. Говорили, что Иван Сусанин был родом из этих мест.
Церковь Воскресения в Молвитине была построена в конце XVII века: белый храм с пятью небольшими куполами. Алексей Кондратьевич пришел, чтобы посмотреть на нее вблизи.
День на краски не был щедрым, но художник вдруг почувствовал всю великую красоту этого весеннего, серого. Мир был влажный, новорожденный... Только весной и именно в марте в средней полосе России льется с небес такой чистый лазоревый свет, на деревьях еще не набухли почки, но они уже насыщены живительным соком.
То ощущение, которым был полон Саврасов по пути в Кострому и в Молвитино, здесь, у околицы обычного неприметного русского села, приобрело особую остроту и силу. Он увидел то, что смутно надеялся увидеть: пробуждение жизни!
Раскрыл этюдник, надел очки. Работал быстро, вдохновенно. Краски, их оттенки, тона и полутона, казалось, сами ложились на холст. Возникал, обретая четкие контуры, замысел будущей картины. Да, именно этот сюжет, именно эти березы, эти грачи, с которыми издревле на Руси связано представление о приходе весны, а с нею — новых радостей и новых надежд.
Только бы суметь передать неповторимость мартовского света и весеннего воздуха! Воздух — главное! Без воздуха нет пейзажа. Серебристо-жемчужный свет, дробясь и растекаясь, стоял перед глазами и получал свое воплощение в этюде для картины.
Весна ставит на крыло птицу и художника. Саврасов работал в радостном упоении. Через несколько дней поехал в Ярославль, охваченный желанием поскорее начать картину.
—Ты доволен, ты улыбаешься? — увидела перемены в нем Софья Карловна.
— Доволен. Ох, как доволен!
Алексей Кондратьевич уединился в своей мастерской. На мольберте стоял совсем небольшой подрамник с натянутым на нем загрунтованным холстом.
|
|
Пейзаж будет небольшим.
Художник работал теперь не спеша, тщательно, дожидаясь, пока краска высохнет, и уже тогда накладывал новый слой. Он не собирался делать картину яркой и звонкой. Излишняя красота так же вредна для картины, как и недостаток ее: отдых нужен глазу и свобода для воображения.
К началу мая 1871 года Саврасов вернулся в Москву. Здесь он уже полностью закончил картину.
В один из летних дней к нему приехал Павел Михайлович Третьяков.
— Я слышал о ваших «Грачах», и не терпится взглянуть на них.
Саврасов провел гостя в соседнюю комнату — небольшую мастерскую.
Третьяков остановился в нескольких шагах от картины, слегка наклонив голову.
— Первоклассная вещь. — сказал после продолжительного молчания. — Поздравляю вас! Какую бы вы цену хотели за нее? — Он знал, что Саврасову тяжелы разговоры о деньгах, и в глубине души был согласен с художником: разве можно говорить, к примеру, о стоимости серенады Шуберта или двух строчках Пушкина: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты.» Но Третьяков был не только коллекционером, он был купцом. Не дождавшись ответа, сам предложил 600 рублей — годовой оклад Саврасова в Училище живописи. Алексей Кондратьевич согласился. Картина «Грачи прилетели» стала собственностью Третьякова.
Галерея Павла Михайловича пользовалась большим уважением среди художников. Продать картину Третьякову было мечтой каждого живописца. Московские критики прекрасно понимали значимость оценки Третьякова, и, однако же, когда Павел Михайлович показал картину на выставке Общества любителей художеств, ее приняли с насмешкой:
— Обычный весенний пейзажик.
— Мрачная картинка.
Алексей Кондратьевич знал, что «Грачи прилетели» — лучшее его полотно; и было обидно, что люди так злобно-несправедливы.
К счастью, подоспела Первая передвижная выставка в Петербурге. Там Алексей Кондратьевич получил настоящую оценку своего труда:
— Лучшая и оригинальнейшая картина!
— «Грачи» — это же молитва святая.
— Когда приближаешься к «Грачам», охватывает удивление — какое маленькое полотно! Как все скромно и просто. И в то же время понимаешь: перед тобой — чудо.
Каждый посетитель выставки находил в картине Саврасова что-то близкое себе, что-то такое особенное, на что с благодарностью откликалась душа.
Алексей Кондратьевич был рад и взволнован. Будущее, которое у него так старательно отнимали недруги, оставалось за ним. Он победил! Победил талантом и высотой своего духа.
СУХАРЕВА БАШНЯ
Жизнь Алексея Кондратьевича постепенно входила в прежнее русло. Он снова преподавал, и его пейзажная мастерская представляла собой «свободнейшее учреждение всей школы». Саврасов не связывал молодые таланты жесткими требованиями и дисциплиной, и за то они горячо любили его. Лишь только начиналось таяние снега, все «шли в природу», пытаясь отобразить на своих холстах ее живые трогательные черты. В мастерской Саврасова вырастали Нестеров, Левитан, Коровин — будущая гордость России; у них уже сейчас складывался свой собственный неповторимый почерк. Алексей Кондратьевич тоже много писал.
Семидесятые годы стали для него периодом высшего творческого расцвета. Словно обретя в работе над «Грачами» новое важное знание о жизни и живописи, Алексей Кондратьевич создавал вдохновенные пейзажи, проникнутые красотой и поэзией.
Особую линию в его творчестве представляли городские московские пейзажи, вписавшие уникальную страницу в отечественное художественное «москвоведение».
Лучший из них — «Сухарева башня», розоватая на фоне вечерней зари, украшенная орнаментом, необычайная по архитектуре.
Во всех уголках России знали об этой башне.
Громадная, видимая отовсюду в Москве, как колокольня Ивана Великого, башня славилась происходившими на ней чудесами. В 1812 году за день до вступления французских войск в Москву, над столицей летал странный ястреб, ноги которого были опутаны мочалками и веревками. Над Сухаревой башней он зацепился мочалками за крылья двуглавого орла на шпиле, долго бился, пытаясь высвободиться, но, обессиленный, повис и издох. «Беспременно и Бонапарт запутается у нас и издохнет!» — истолковывал народ это диво.
Сухареву башню строил Петр I — в честь стрелецкого полковника Лаврентия Панкратьевича Сухарева, который остался верным Петру, когда царевна Софья подняла стрельцов против своего брата.
Все здание строилось по плану самого Петра.
В 1701 году в палатах башни Петр открыл «навигацкую» школу.
|
|
В 1712 году в школе уже обучалось свыше пятисот детей дворян и разночинцев, ставших затем элитой русской армии и флота.
В 1715 году школу перевели в Петербург, где она получила статус Морской академии.
Саврасов мастерски передал бытовую картину. Стаи птиц пролетают над Сухаревой башней в бледно-зеленом закатном небе, возвращаясь после зимы в родные края. Вечерний холод, заледенив дневную оттепель, превратил снег во дворах в гололед, украсил деревья шубками. В чистой, необыкновенно свежей живописи выразилось открытое любование художника земной благодатью. Он сделал картину даже несколько религиозной, связав ее с лучшим, что есть на земле и в душе человека.
И время выбрано им не случайно: только ранней весной и под вечер на небе бывают такие тонкие переливы зеленоватых, розовых и голубых тонов. Высочайшее мастерство Саврасова позволило ему запечатлеть как бы самый момент включения своего духовного мира в общий гармонический строй.
РАДУГА
В середине 1870 годов творчество Алексея Кондратьевича Саврасова достигло своего пика. Его картины появились на Всемирных выставках — он опережал современную пейзажную живопись.
Но проходил этот путь с большими трудностями.
Как писал о нем Левитан, «Саврасов старался отыскать и в самом простом и обыкновенном те интимные, глубоко трогательные, часто печальные черты, которые так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо действуют на душу».
В своих полотнах Алексей Кондратьевич ни на шаг не отступал от правды. И верен остался только России.
Казалось бы, стужа, мороз — какая поэзия в стоящем столбом дыме из труб, в лошадке, везущей дрова, в дырявом заборе? Но, глядя на тихую, в жемчужных тонах картину, зрители вспоминали пушкинские строки:
Вся комната янтарным блеском
Озарена.
Веселым треском
Трещит затопленная печь.
Приятно думать у лежанки.
Но, знаешь, не велеть ли в санки
Кобылку бурую запречь?
Никто до Пушкина и Саврасова так не чувствовал и не передавал задушевность русской природы. Они сделали скромность нашим богатством.
В 1875 году Алексей Кондратьевич окончил картину «Радуга». Чудилось, что даже краски художник использовал необычные, прозрачные, созданные из дождя и света. А между тем «Радуга» — простое повествование о сельских буднях. Несколько изб на косогоре; от речки, по тропке к лесенке медленно ступает женщина с ведрами на коромысле; сквозь тучи пробиваются лучи солнца, освещая омытую дождем зелень.
За этой простотой чувствовалась мягкая, хорошая душа художника, которому все это дорого и близко сердцу. Он изобразил бархат травы, стежки тропинок, кусты ракиты — как единое целое с маленькими избушками на пригорке. А на фоне свинцовой тучи написал нежную радугу, словно приглашающую за собой к духовному восхождению и возрождению.
|
|
Картина «Радуга» глубоко символична, она — одухотворенная песнь о любви, светлых силах и Боге.
С созданием ее Саврасов окончательно вошел в число лучших художников России.
До конца жизни он не утратит чуткости к красоте природы, будет создавать все новые и новые замечательные произведения, наполненные светом, воздухом и какой-то щемящей, истинно русской ноткой.
Константин Дмитриевич Флавицкий (1830 - 1866)
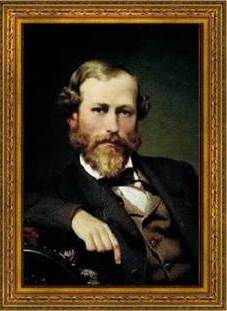
КНЯЖНА ТАРАКАНОВА
От тайного, хоть и законного, брака императрицы Елизаветы Петровны с графом и фельдмаршалом Алексеем Разумовским было двое детей: сын и дочь. Права на престолонаследие они не имели, и «по возрасте убеждены были добровольно отказаться от света, посвятить жизнь свою служению Богу».
Дочь Елизаветы Петровны носила имя Августа. Августа Тараканова. Где она находилась и воспитывалась до сорокалетнего возраста, неизвестно, но уже сорокалетнюю Августу по повелению Екатерины II постригли в монахини, и она получила имя Досифея. Скончалась Досифея в Московском монастыре в 1810 году. Еще при жизни Августы Таракановой дочерью императрицы Елизаветы назвалась некая «принцесса Владимирская» — самозванка, которую выпестовали поляки, чтобы захватить с ее помощью российский престол. По замыслам польских панов самозванка должна была одновременно с Пугачевым явиться среди русских войск и «возмутить их против Екатерины». От такого двойного натиска российский трон бы не устоял, и во время переворота императором сделался бы или самозванный Петр III (Пугачев), или на престол взошла бы мнимая дочь императрицы Елизаветы, то есть «принцесса Владимирская». Поляки были большие мастера фабриковать самозванцев; при этом они умели так искусно хоронить концы, что ни современники, ни потомство не могли сказать решительное слово об их настоящем происхождении.
«Принцесса Владимирская» получила хорошее воспитание, говорила на нескольких языках, была умна, красива, весела, любезна, владела необыкновенной способностью сводить с ума мужчин. В то время как Пугачев действовал в России, она действовала за границей, переезжая из одного государства в другое, всюду выдавая себя за дочь Елизаветы, то есть законную наследницу русского трона. В России же Пугачев уже взял несколько крепостей и находился под стенами Оренбурга. Башкиры и мещеряки, обольщенные подарками «Петра III», стали нападать на русские селения и толпами переходить к бунтовщикам. Киргизский хан Нурала вошел в дружеские сношения с Пугачевым; мордва, черемисы, чуваши заволновались и перестали повиноваться русскому правительству; служивые калмыки сбегали с форпостов; помещичьи крестьяне Оренбургского края и по Волге заговорили о воле «батюшки Петра Федоровича». В середине октября 1773 года Оренбургский край уже весь был охвачен мятежом!
Почуяв, что Россия ослаблена, шведский король стал угрожать ей войной, и в России с часу на час ожидали, что шведские войска явятся в Финляндию.
Франция тоже обрадовалась возможности ухватить свой кусок: готовилась вмешаться в войну, которую вели между собой Россия и Турция. В Тулоне уже снаряжалась сильная эскадра, что должна была идти на помощь остаткам турецкого флота, сожженного графом Орловым при Чесме. Известия обо всех этих обстоятельствах, преувеличенные до крайности, расходились по Европе. И Польша признала благовременным выставить претендентку на русский престол. Король Людовик XV одобрил намерение «принцессы Владимирской» ехать в Константинополь и оттуда предъявлять свои права на русский трон. Явилось подложное «духовное завещание царицы Елизаветы», в котором она якобы пишет, что «Елизавета Петровна (?), дочь моя, наследует мне и управляет Россией так же самодержавно, как и я управляла. Ей наследуют дети ее, если же она умрет бездетною — потомки Петра, герцога Голштинского».
И «законная наследница» на русский престол стала подписывать свои бумаги «Ее императорское высочество принцесса Елисавета Всероссийская».
Разумеется, обо всем этом знала Екатерина. Не желая делать громкую историю, она придумала, как без шума уничтожить самозванку. Для исполнения своего плана Екатерина избрала графа Алексея Орлова. В это время европейские газеты уже известили о поимке Пугачева и подавлении пугачевского бунта.
Поляки бросили «наследницу российского трона», но она уже не могла остановиться в своих замыслах. Она задумала достичь русского престола при помощи Ватикана, обещая за то принять римско-католическую веру и ввести ее в России. Объехав несколько европейских городов, «принцесса Владимирская» оказалась в Пизе, где Орлов не замедлил ей представиться. Граф обращался с ней почтительно и почтение свое заявлял как верноподданный. «Принцесса» не сразу поверила Орлову. О планах своих молчала, но сказку о своем высочайшем происхождении рассказала не один раз. Орлов обо всем доносил в Петербург. Наружность самозванки он описывал так: «Оная женщина росту небольшого, тела очень сухого, лицом не бела, не черна, глаза имеет большие, открытые, цветом темно-карие, косы и брови темно-русы, а на лице есть и веснушки. Свойство она имеет довольно отважное и своею смелостью много хвалится».
Орлов знал о влюбчивом характере «принцессы Владимирской» и с большим искусством разыгрывал из себя влюбленного. Ему было тридцать восемь лет, красавец, огромного роста, силы необычайной — «принцесса» не устояла перед русским богатырем. Но как овладеть ею, как арестовать и отправить в Россию? Это было не очень легко. Иезуиты, деятельно принимавшие участие в жизни самозванки, зорко следили за всем, что вокруг нее происходило. Орлов их боялся. Употребить против врагов «принцессы» яд и кинжал они были очень способны. Граф склонил ее к браку с ним. В Пизе православного священника не было, и «принцесса» согласилась ехать в Ливорно, где базировалась русская эскадра, которой командовал Орлов, и там обвенчаться на адмиральском корабле.
По приезде их в Ливорно чуть не все население города высыпало на набережную. Граф Орлов был хорошо известен ливорнцам, как мастер устраивать великолепные и чудовищно дорогие спектакли. Теперь они ждали какого-нибудь необычайного, небывалого зрелища. И оно действительно им было предоставлено. На кораблях заиграла музыка, раздались пушечные выстрелы. То был царский салют! Матросы стояли на реях и громко кричали «ура», приветствуя внучку Петра Великого, внучку создателя русского флота!
«Принцесса» была в восхищении: мечты ее сбывались! С адмиральского корабля спустили кресло, и на нем подняли «принцессу» на палубу. Там, под руку с графом Орловым, она приветствовала офицеров, ласково кланялась матросам. Начались маневры. «Елизавета» стояла у самого борта, счастливая. Вдруг услышала повелительный голос. Оглянулась. Ни Орлова, ни свиты на палубе не было. Вместо них стояли вооруженные солдаты.
— Что это значит? — гневно спросила «внучка Петра I».
— По именному повелению Ее императорского величества вы арестованы, — ответил капитан.
— Где граф Орлов?
— Арестован по приказу адмирала.
«Принцесса» лишилась чувств.
Дальше событие развивалось быстро. Орлов назначил к ней врача, распорядился, чтобы по пути эскадры в Россию за пленницей тщательно наблюдали, особенно во время остановок в иностранных портах. Эскадра вышла в море, а сам Орлов отправился в Россию сухопутным путем.
Когда самозванка была доставлена в Петербург, ее поместили в Петропавловскую крепость. Начались допросы. Больше всего интересовало императрицу, кто внушил самозванке принять на себя имя дочери Елизаветы Петровны? «Принцесса» считала такие вопросы неуместными: она настоящая наследница престола! Князь Голицын, ведший допрос, просил ее быть откровенной и чистосердечной. Она стояла на своем. Тогда ей прочли по- французски составленное показание и дали подписать. Она взяла перо и твердо подписала: Elisabeth.
— Отберите же у арестантки все, кроме самого необходимого, — велел Голицын страже. — Пищи давать ей столько, сколько нужно для поддержания жизни. — И, обратившись к арестантке, прибавил: — При таком упрямстве вы не можете ожидать помилования!
У претендентки на русский престол развилась чахотка, грозные признаки которой стали обнаруживаться еще за границей. К тому же «принцесса» ждала ребенка. Ее перевели в верхний этаж Алексеевского равелина, в помещение сухое, светлое, состоявшее из нескольких комнат, и давали теперь хорошую пищу, которую готовили на комендантской кухне. Но смертный конец ее приближался неумолимо. В конце ноября у нее родился сын. Граф Алексей Орлов сделался отцом. Через несколько дней самозванка умерла, не пожелав даже на исповеди признаться в своем настоящем происхождении. Солдаты, бессменно стоявшие при ней на часах, выкопали в Алексеевском равелине яму и тайно зарыли в нее труп. Никаких погребальных обрядов совершено не было.
С каким секретом ни содержали захваченную графом Орловым женщину, какою таинственностью ни окружали смерть ее и погребение, все равно в царствование Екатерины разнеслись по Петербургу, а оттуда пошли по другим местам слухи, будто в Петропавловской крепости уморили дочь императрицы Елизаветы Петровны, Августу Тараканову. Прав оказался барон Сакен, донося польскому правительству: «Мне из верных источников известно, и я положительно знаю, что смерть так называемой принцессы Елизаветы последовала совершенно естественно, но, вероятно, это не помешает распространению разных слухов».
Прошло два года после смерти самозванки. В 1777 году случилось сильное наводнение в Петербурге. Казематы Петропавловской крепости были залиты водой. После этого стали рассказывать, что заточенную княжну Тараканову не вывели из каземата, и она утонула. Обо всем этом, конечно же, знал молодой художник Константин Дмитриевич Флавицкий. Судьба княжны Таракановой, передаваемая из уст в уста, потрясала своей трагичностью! Уже одна фамилия — Тараканова, вызывала сострадание к дочери императрицы Елизаветы. Но еще потому так сильно откликнулось сердце художника на несчастную участь Таракановой, что его самого в девятилетнем возрасте мать отдала в сиротский приют: кормить было нечем. Двадцать лет пылкий, с сильным художественным воображением Константин Флавицкий должен был скрывать свою истинную суть, подчиняться всем и всему. Учился живописи за счет благодетелей. В Академии художеств считался одним из лучших учеников, поскольку безропотно следовал предписанным академическим образцам, так что даже сами академики удивлялись. По окончании учебы получил Большую золотую медаль и был отправлен пенсионером в Италию.
Художественным отчетом его шестилетнего пребывания за границей стала картина «Христианские мученики в Колизее». Написанная мастерски, с большой экспрессией, она все же не внесла ничего нового в русскую живопись. Но там же, за границей, Флавицкий сделал рисунок к будущей своей картине «Княжна Тараканова», на сюжет давно и страстно его привлекавший. Вернувшись на родину, он два года работал над «Таракановой». Легенда о ней давала Константину Дмитриевичу возможность, в которой он так нуждался: открыть свое истинное лицо, показать свой истинный дар! Все усилия его были направлены к этому. На картине изображена красивая молодая женщина, одетая в поношенное и уже изорванное платье из атласа и бархата. Она стоит на кровати, покрытой суровым одеялом, и в отчаянии смотрит, как крысы наполняют комнату, пробираются на кровать, на ее платье. В окно с железными решетками хлещет вода.
В 1865 году картина была выставлена в Академии. Зрители бессменно толпились возле нее. Восторги, слезы. затем все новые толки в частных беседах и переписке. обсуждения на страницах печати. Флавицкий был удостоен множественных похвал и наград, и это еще больше укрепило уверенность публики в истине небывалого происшествия, которое на самом деле было выдумано иностранцами, писавшими много разного вздора о Екатерине II.
|
|
Павел Михайлович Третьяков выразил желание купить картину: она делала честь русской школе. Но Флавицкий запросил слишком большую сумму, и коллекционер отказался. Спустя год, с детства слабый здоровьем Флавицкий
умер от чахотки, заболев ею еще в Италии. После смерти художника, его братья повезли картину в Париж на Всемирную выставку, надеясь получить за нее баснословный куш. Критик Владимир Стасов сокрушался по этому поводу: «Какова же будет участь бедной картины теперь? Купит ли ее на Всемирной выставке ради курьезного русского сюжета какой-нибудь иностранный аматер. или она вернется к нам, и будет продолжать свои мытарства?..»
Братья Флавицкие ошиблись в покупной способности иностранцев, и в 1867 году картина была продана Третьякову. «Княжна Тараканова» стала первым историческим произведением в московском собрании Павла Михайловича Третьякова.
Николай Николаевич Ге (1831 –– 1894)
|
|
ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
Николай Николаевич Ге был настолько увлекающимся человеком, что многих приводил в недоумение. Он даже в Академию художеств поступил как-то вдруг: учился в Петербургском университете на математическом факультете, но увидел брюлловскую «Помпею» — и прощай университет!
За несколько месяцев из благополучного юноши превратился в художника, имеющего одно пальто на все времена года. Сын воронежского помещика, всегда при больших деньгах, он отдавал их неимущим друзьям, сам питался в грошовой кухмистерской, а одежду довел до такой степени ветхости, что иные знакомые не желали показываться с ним на улице.
Когда в 1857 году Ге окончил учебу, у него был один Бог — Брюллов. Мудрено ли? Все классы, коридоры, лестницы Академии были заполнены Брюлловым: этюдами, суждениями, изречениями Брюллова, рассказами о Брюллове, анекдотами о Брюллове. Один бог восседал на Олимпе — Карл Павлович Брюллов! Ге хотелось взлететь подобно своему кумиру. Начал несколько картин, но ничего значительного не вышло. Уехал в Италию.
Однако и там ничего не получалось. Тогда решил бросить живопись, вернуться в Россию и заявить, что у него нет таланта, ошибся.
И вот, когда казалось, что впереди беспросветно — ему вдруг открылось! Ге читал Евангелие: всем известную и много раз замеченную художниками сцену тайной вечери — последней встречи Иисуса Христа со своими учениками, когда Иисус произнес роковые слова: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Предательство Иуды было традиционным академическим сюжетом на евангельскую тему. Один из учеников Христа, Иуда Искариот, за 30 сребреников предал своего учителя его врагам, сообщив, что Христос с остальными учениками должен быть ночью в Гефсиманском саду, и там Его можно задержать. Иуда сам вызвался указать путь страже.
Ах, какая то была страшная ночь! До чрезвычайности унылая, длинная ночь! Во время тайной вечери апостол Петр сказал Иисусу:
— С Тобой я готов и в темницу, и на смерть.
А Господь ему на это:
— Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петух, как ты трижды отречешься от меня.
После вечери Иисус смертельно тосковал в Гефсиманском саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. И в ту же ночь Иуда поцеловал Иисуса, поцелуем указав Его мучителям. Связанного Иисуса вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет нечто ужасное, шел вслед. Он страстно, без памяти любил Иисуса и теперь видел издали, как Его били.
Пришли к первосвященнику. Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся. Одна женщина, увидев его, сказала:
— И этот был с Иисусом, — то есть, что и его, мол, нужно вести к допросу.
Все работники, что находились возле огня, подозрительно и сурово поглядели на Петра, он смутился и сказал:
— Я не знаю Его.
Немного погодя кто-то снова узнал в Петре одного из учеников Иисуса и сказал:
— И ты из них.
Но он опять отрекся.
И в третий раз кто-то обратился к нему:
— Да не тебя ли я видел сегодня с Ним в саду?
Он третий раз отрекся. После этого запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые Он сказал ему на вечери.
Вспомнил, очнулся, пошел со двора, и горько-горько заплакал.
И все-таки апостол Петр, трижды за одну ночь отрекшийся от своего учителя, не свернул с Его пути. Пошел дальше. Позорная кличка предателя навеки осталась за Иудой.
|
|
Ге взволновало не предательство, а разрыв. Иуда — не мелкий негодяй, который со страху или из корысти предал своего учителя. Такого Иисус не сделал бы своим апостолом — посланником для распространения нового учения. В том-то и трагедия Иисуса, что Иуда был доселе учеником и верным его спутником, одним из двенадцати избранных, таким же, как Иоанн или Петр. Нужно очень верить, когда идешь по воде. Иуда усомнился — надо ли идти до конца? — и пошел ко дну.
Николай Николаевич в своей картине решил представить момент тайной вечери, когда Христос сказал ученикам:
— Один из вас предаст меня.
Иуда спросил:
— Уж не я ли?
— Что делаешь, делай скорее, — ответил ему Иисус.
Ге вдохновенно взялся за работу. Он, который вчера только отбрасывал кисть и повторял слова Брюллова: «Лучше ничего не сказать, чем сказать ничего», теперь горел, как в лихорадке. А все потому, что увидел там, где и не искал!
Картина «Тайная вечеря» была подмалевана за неделю. Ге словно вошел в комнату тайной вечери на минуту позже, чем все, кто писал этот эпизод до него. Роковые слова не только произнесены, они уже пройденный шаг. Совершается роковое действо. Близ Иисуса лежит Иоанн: он все понял, но не в состоянии поверить возможности такого разрыва. Вскакивает Петр, — он тоже понял и пришел в негодование — он горячий человек. Остальные апостолы думают, что Учитель просит Иуду сходить и прикупить еще еды.
Уход Иуды незаметен.
Художнику некогда было даже остановить мгновение — рассказать о каждом из учеников Христа. Да и нужно ли? Через час, когда придут арестовывать Иисуса, апостолы разбегутся со страху.
Николай Николаевич писал запойно. Приходил в мастерскую на рассвете, в длинном, до полу, старом халате, подходил к картине и засучивал рукава. Но не принимался сразу. Садился напротив картины в кресло, крутил папироску. Искоса разглядывал холст, дымил. Потом резко вставал; обжигая пальцы, торопливо гасил папиросу; путаясь в халате, теряя туфли, спешил к полотну, брал палитру. Писал быстро, смело, держа в вытянутой руке нацеленную кисть, как боевую шпагу.
Ге нашел в «Евангелии» отклик своим мыслям, своим чувствам! По ночам ему снилась его картина. Сердце отчаянно колотилось, он просыпался от страха и сомнений: так ли делает? Но что-то подсказывало ему, что так!
Готовую картину он выставил в Петербурге, и равнодушным не остался никто, — ни академики живописи, ни критики, ни простые зрители. В картине поражала драматическая взволнованность и смелая постановка философско- этических проблем. Несмотря на явный разрыв художника с академическими канонами, Академия за десять тысяч рублей серебром купила «Тайную вечерю» для своего музея. Николаю Николаевичу Ге было присвоено звание профессора. Впоследствии он будет наставлять своих учеников:
— Никогда, слышите, никогда никто не должен подражать манере другого! Вы лишь устанете и отчаетесь.
Сам он, осмыслив по-своему тысячелетний сюжет, стал независимым и неповторимым.
ПЕТР I ДОПРАШИВАЕТ ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ
Морозным январским утром 1718 года черный ладный возок переехал русскую границу. Тайный советник Петр Андреевич Толстой счастливо вздохнул и покосился на своего спутника. Всю ночь Петр Андреевич не сомкнул глаз, прислушиваясь, как спутник его, укутанный в тяжелую шубу, посапывает и тонко всхлипывает во сне. Толстой был при дворе уже полвека, испытал много превратностей судьбы, умел вести рискованную игру, ни во что не верил и ничему не удивлялся. Но на сей раз, и он был приятно удивлен: ему не верилось, что удастся выманить царевича из-за границы. Что ж, недаром ему говорил государь Петр: «Голова, голова, кабы не так умна ты была, давно бы я отрубить тебе велел».
Царевич открыл глаза, и сразу, спросонок, заговорил про скорое венчание со своей любезной Ефросиньюшкой и про спокойную жизнь в деревеньке. Толстой согласно кивал: раз батюшка Петр Алексеевич обещал, так тому и быть — государево слово крепкое.
31 января царевич прибыл в Москву. Царь его ждал. Петру Андреевичу Толстому «за показанную так великую службу не токмо мне, но паче ко всему отечеству» было пожаловано поместье в Переяславском уезде. Царевичу Алексею обещанной деревеньки не дали, и покоя тоже не дали, — учинили допрос. Петр сидел, окруженный сановниками:
— Открой все!
Алексей валялся у отца в ногах, плакал и выдавал, выдавал тех, кто с ним шел против царя и отечества.
Но Петру было мало:
— Всех, всех открой! Здесь и за границей!
Хватали виновных и подозрительных, пытали в застенках. Казнили. При пытках узнавали всё новые имена: одних висящие на дыбе называли сами, других, потому что судьи того хотели. Постриженную в монахини царицу Евдокию — мать царевича Алексея, законную свою жену — Петр за причастность к заговору приказал сослать в Ладожский монастырь. Близких ее людей — казнить.
Алексея повезли в Успенский собор и заставили подписать отречение от наследства. Отец не отпускал его с глаз. Покончив с трудными и жестокими московскими делами, он увез сына в Петербург. Там царевич валялся в ногах у государыни Екатерины Алексеевны, мачехи своей, молил, чтобы дозволила обвенчаться с возлюбленной Ефросиньюшкой (при дворе ее брезгливо называли «девкой Ефросиньей»). Но ведь и та, что сидела на месте его матери, тоже была девка — пленная немецкая девка. Царевич просил ее слезно, она посмеивалась.
Ефросиньюшка приехала из-за границы двадцатого апреля, и прямо с дороги ее завернули в Петропавловскую крепость. Через три дня начался допрос. «Нетвердою рукою» отвечая на вопросы царя, она удивительно твердо и точно сообщила все, что он желал узнать. Да, царевич на отца беспрестанно жаловался, говорил, что хочет лишить его жизни. И еще (самое страшное!) говорил, что как только станет царем, все будет иначе. «Я-де старых всех переведу, а изберу себе новых, и тогда буду жить в Москве, а Петербург оставлю просто город». В середине мая английский посланник доносил: «Накануне прошедшего воскресенья царь отправился в Петергоф в десяти милях отсюда, с царевичем, которого никогда вдали себя не оставляет, и. допросил сам тайно».
Николай Николаевич Ге из всей истории петровского царствования выбрал эпизод едва ли не самый мрачный и драматический. Царь-убийца, сыноубийца! И не в порыве бешенства убил, не пришел в безумство от содеянного, не каялся исступленно. Убил расчетливо. Неверными посулами вывез сына из-за границы, сам допрашивал, сам предрешил судьбу, открыто — через особый суд — приговорил к смерти, а после приговора опять пытал и приказал задушить тайком. И не каялся. Хоть страдал, наверное — но не желал никому выказывать тяжкую отцовскую скорбь.
В набросках картины Ге прожил с Петром момент, предшествовавший тому, который передан на холсте. Уже все решено для Петра, для Алексея. Слова сказаны и судьбы определены. В бумагах, брошенных на столе (наверное, это страшные для царевича показания «Ефросиньюшки»), ощутима ненужность. Один исписанный лист упал на пол, к ногам Петра. Бумаги кончили говорить. Люди кончили говорить. Говорят глаза. Отец поднял голову, до того опущенную в мучительном поиске решения, вглядывается в сына. Петр видел своей задачей обновление России, а это — дело движущееся и развивающееся. Раз, начав его, останавливаться нельзя. Он не боялся, что сын свергнет его с престола, он боялся, что после его смерти некому будет продолжить начатое им дело. Да, Алексей — противник! Петр читал показания сына и Ефросиньи, его уже не купишь жалобным «была бы только подле меня Афросиньюшка»! Или когда царевич просился в монастырь от величия и власти. Говорил же матери: «Монашеский клобук не гвоздями к голове прибит.»
Кроваво-красная скатерть беспощадным светлым лучом выхвачена из сумрака. Стекая на пол, она разделяет отца и сына. Четкий до жути узор подчеркивает отдельность этих трагически связанных жизнью людей.
Через такую скатерть, через такой узор не переступишь! Алексей опустил глаза. Жалкий беспомощный. В нем признание вины и надежда слабого.
Ге писал сложную и жуткую психологическую драму. Петр жесток; жестокость его осмысленна. Багровый отсвет застенка падает на спинку царского кресла. Петр смотрит на сына почти тоскливо: «Непотребный! Я строил, воевал — ты за штофом смерть на меня накликал. Ты за колокола цеплялся, Богу угоден. От меня же требует Россия авраамовой жертвы!»
|
|
Картина «Петр I и его сын Алексей», как и «Тайная вечеря», тоже о разрыве. Как и Иисусу, Петру было невыносимо больно. Петр очень верил в свое дело, а сын — усомнился и пошел ко дну. Еще немного, и он бы предал отца.
28 ноября 1871 года в Петербурге открылась Первая выставка художников-передвижников. «Мы открыли выставку, и она имеет успех, по крайней мере, весь Петербург говорит об этом, — сообщал Крамской в Ялту. — Это самая крупная городская новость, если верить газетам».
На выставке среди множества превосходных полотен была картина Ге «Петр I и его сын Алексей». Картина произвела на зрителей громадное впечатление! Александр II тут же заказал для себя ее повторение. Газеты писали, что «всякий, кто видел эти две простые фигуры, должен будет сознаться, что он был свидетелем одной из тех потрясающих драм, которые никогда не изглаживаются из памяти».
Николай Николаевич Ге искренне верил в воздействие искусства на человека.
— Я художник, — говорил он, — а этот дар не для пустяков.
«ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?»
Ге несколько раз круто менял свою жизнь. Его биография могла бы лечь в основу увлекательного фильма-эпопеи с постоянной сменой декораций, настроений и кумиров. То же происходило и с его творчеством. От библейской тематики он переходил к написанию портретов, от портретов — к исторической живописи, и постоянно был неудовлетворен собой.
Через четыре года после триумфа картины «Петр I допрашивает царевича Алексея», художник полностью разочаровался в собственном творчестве и решил навсегда поселиться в деревне. Почитатели Ге не понимали: зачем человеку прославленному забираться в какую-то глушь, жить отшельником? Но в душе художника уже совершился переворот.
Николай Николаевич без сожаления покинул Петербург и поселился на хуторе Ивановском в Черниговской губернии. Занимался сельским хозяйством, искусно клал печи в мужицких домах, разъяснял нищим Евангелие — и делал всё с таким же удовольствием, с каким раньше вел в Петербурге светские беседы и устраивал выставки.
Живопись он забросил, лишь изредка писал для заработка портреты, при этом стоимость их едва окупала расходы на кисти и краски. Но в 1882 году, познакомившись в Москве со Львом Николаевичем Толстым, увлекшись его личностью, Ге возвратился к искусству, став кумиром художественной молодежи России и создав свою «школу» учеников и последователей. Скромный хутор Ге стал местом паломничества людей, ищущих ответы на главные жизненные вопросы.
Свою живопись Николай Николаевич посвящал теперь исключительно библейской тематике, воспринимаемой им как вечная борьба добра со злом при неизменном торжестве зла. Неприглядность этого торжества он изображал на своих полотнах, не боясь преступать границы художественности, минуя всяческие нормы и условности.
В 1890 году на передвижной выставке Ге представил картину «Что есть истина?» В Евангелии от Иоанна говорится, что на другой день, после того как Иуда предал Иисуса, первосвященники и старейшины Израиля постановили предать Иисуса смерти. Связали ему руки и отвели к Пилату — римскому наместнику в Иудее.
— В чем вы обвиняете этого человека? — спросил Понтий Пилат.
— Если бы он не был злодеем, мы не предали бы его тебе, — был ответ. — Он развращает наш народ! Он проповедует ересь: «Не собирай себе сокровищ на земле, но собирай себе сокровища на небе, ибо, где сокровища ваши, там будет и сердце ваше»; «не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас: не будет вам награды от Отца Небесного»; «как хотите чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними»; «входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель».
Пилат спросил Христа, почему он это проповедует? Он ответил:
— Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
Пилат принадлежал к той категории римлян, которые утратили веру в существование истины. Чиновник, он постоянно видел вокруг себя лицемерие, презрение к справедливости. Удаляясь для решения участи Христа, Пилат с циничной усмешкой бросил ему на ходу:
— Что есть истина?
Христос промолчал. Давать ответ было бессмысленно: истина не «что», а «Кто». Она живая, она стояла перед Пилатом, но ему это и в голову не приходило.
Не усмотрев в поведении Христа ничего, за что стоило бы казнить, Пилат вернулся к иудеям, объявив о своем решении отпустить Его. Но иудейский народ, столпившийся у претории, закричал:
— Смерть ему! А отпусти Варавву! (убийцу).
На выставке картина «Что есть истина?» стала сенсацией. Толпы людей осаждали ее. Голоса разделились. Одни зрители были в восторге, другие — в гневе. Все привыкли к красивому облику Христа, а здесь он — избитый, оплеванный, униженный после ночного глумления над ним. Но непоколебимый.
— Это первый Христос, которого я понимаю, — признался писатель Лесков.
|
|
Ге считал, что во встрече Пилата с Христом нельзя писать «красивого» Христа. Он верил в историческое существование Христа, и трактовал Его как живого, страдающего человека. Цель художника — пробудить активный душевный отклик, вызвать к размышлению над философскими проблемами бытия.
|
Царь Александр III назвал картину отвратительной, приказав убрать с выставки. Один из поклонников Ге повёз картину в Европу. Но ее тонкий, чисто русский психологизм, оказался Западу неинтересен. Зато раздумья по поводу никчемности своего творчества больше не терзали художника, — он понял, что идет верным путем. |
Иван Иванович Шишкин (1832 — 1898)
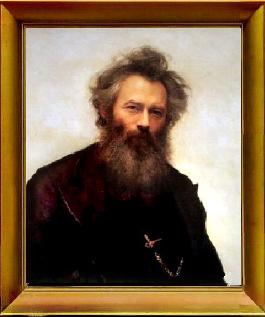
СОСНОВЫЙ БОР
Шишкина называли царем леса. За то, что знал в лесу каждую ветку и солнечное пятнышко, любил безмерно, и, передавая свои впечатления на картинах, заставлял людей задуматься об истинной красоте.
Еще в юности пленили его могучие закамские леса: спокойные, с синеющими просеками, с птичьим пересвистом, душистым запахом травы и хвои. Приезжая в родную Елабугу из Казани, где учился в гимназии, Иван не расставался с карандашом и бумагой, пропадая в окрестных лесах. За это доставалось от матери: только и забот у сына, что бумага да карандаш. Иван выслушивал, не переча, но при этом думал о лесе: как передать его таинство? Чтобы дышал рисунок, жил?..
Как-то раз, когда Иван изучал скульптуру сосновых стволов, его окликнул знакомый мужичок:
— Бездельем маешься?
— Почему бездельем? — возразил Иван.
— Труженик горб гнет, руками своими сполняет дело.
— А художник? Разве не гнет горб, разве не руками пишет картины?
— А на что ваши картины? Ими разве сыт будешь?
В чем мог убедить его Иван? Вот если бы взял кнут и принялся коров пасти — убедил бы. Но коров пасти он всегда сумеет. А если из груди рвется песня, пусть она будет спета.
Проучившись в гимназии четыре года, Иван вдруг сказал родителям:
— Я уезжаю.
— Куда, если не секрет? — отец внимательно посмотрел на сына.
— В Москву. Учиться живописи.
Мать схватилась за голову, запричитала:
—Господи, да где ж это видано, чтоб из купеческого сословия в художники?
Отец встал с кресла, шагнул к окну и долго стоял, отвернувшись.
«Если и он не поддержит меня. — подумал Иван. — Нет! Никто не может за меня решать, никто».
— Пусть едет, — сказал отец.
Иван распрощался с родными. Возок катился с пригорка на пригорок по широкой равнине, качались по сторонам от дороги спелые хлеба, и стояли дозорными богатырские сосны. Так и запомнился Ивану отчий край, дорогое сердцу Прикамье: соснами под чистым небом среди хлебов.
Приехав в Москву, Иван держал экзамен в Училище живописи и ваяния, был принят и серьезно занялся изучением натуры. Он работал так много, что о его упорстве слагались легенды — он мог сделать за одну неделю столько, сколько иной и за месяц не сделает. Первые же рисунки принесли ему успех. Шишкинские листы ходили по рукам, ими «зачитывались» до дыр.
А жилось Ивану в ту пору, как и большинству его товарищей-студентов, нелегко: частым было безденежье. Отец почти не помогал, его купеческие дела шли плохо. Но письма от отца приходили бодрые; талантливый он был человек и неугомонный:
«Хочется восстановить башню в Елабуге, на Чертовом городище. Там когда-то был город Гелон. Булгары построили. Войны были извечные, люди не могут без войн, хотя по крови все, должно быть, братья — от одного корня идут. Персидский царь Дарий неподалеку скифов разбил, зимовал в Гелоне, а весной, как только просохло, сжег город дотла и ушел. Силу свою показывал. Но разве в этом сила? Построить город, вот где сила нужна. А разрушить — это ведь просто.»
Время шло. Рос в Иване Шишкине дар живописца. Все чаще мечталось ему о Петербурге, об Академии художеств. Друзья оговаривали: питерские академики не благоволят москвичам. Но Иван был уверен в себе. Зимой 1856 года он отправился в столичный Петербург. На экзамене в Академии представил несколько рисунков и пейзажей, и сразу за один из них ему присудили малую серебряную медаль — первую в его жизни награду. На вручение награды требовалось явиться во фраке и в белых перчатках. Шишкин отказался.
— Я рисую без перчаток. Отчего же награду за свою работу должен получать в перчатках да еще белых? — и не пошел на акт.
Но это не испортило его отношений с Академией, хотя некоторым профессорам дерзость Шишкина не понравилась.
Работал Иван неутомимо, определив раз и навсегда две главные темы в своем творчестве: это — русский лес и родные просторы; их разнообразие. Вместе они создавали то гармоничное, неделимое целое, в котором полностью раскрывался мир переживаний художника, его размышлений о себе и своем времени, о человеке и природе. «Живопись есть немая, но вместе с тем тёплая, живая беседа души с природой и Богом», — писал он в своем дневнике.
Пейзажи Шишкина выставлялись в Москве и Петербурге, он получил еще одну серебряную медаль, а в 1860 году — Большую золотую медаль за два вида, написанные на острове Валаам. Вместе с этой высокой наградой получил и право на поездку за границу в качестве пенсионера Академии.
|
|
— Зачем мне заграница? — отбивался Шишкин. — Во мне все русское!
Однако Академия настаивала, и он обратился с просьбой в Совет: разрешить ему несколько месяцев провести в Елабуге, где не был два года. Его просьба была удовлетворена.
Домой Шишкин ехал через Казань. Опять видел родные закамские леса, раскинувшиеся на многие километры под высоким чистым небом. И когда поднялся на пригорок, с которого открывался вид на Елабугу, так разволновался и обрадовался, что не мог усидеть: соскочил с повозки и побежал по траве.
Он — дома! Его любят и окружают заботой — долгожданный сын! И относятся к нему с величайшим почтением — художник! Все дни он пропадал в елабужских лесах, рисовал. Сосны, сосны, сосны! Лесные богатыри! Да он и сам богатырь.
Поездку за границу Иван Иванович все откладывал. Работалось дома хорошо. Рассуждал: «Для работы французу нужна Франция, русскому — Россия». Только весной следующего года он выехал в Германию — дальше тянуть было некуда.
Как предполагал, так и вышло: разочарования на чужбине следовали одно за другим. Шишкин искал хоть что-нибудь дорогое сердцу, — напрасно. В картинных галереях видел он пейзажи холодные или слишком красивые, к тому же они были ему известны по репродукциям. «Мы о загранице знаем все, — с горечью думал он, — а заграница о нас почти ничего не знает. Почему? Чем наша жизнь, наша живопись хуже?»
Однажды, сидя в таверне за кружкой пива, он заметил, что за соседним столиком компания подвыпивших немцев с насмешкой поглядывает на него и что-то такое мерзкое говорит о России. Шишкин кое-как уже умел изъясняться по-немецки, однако сделал вид, что разговор соседей его не касается. А те не унимались. Тогда он подошел к их столику и ткнул себя пальцем в грудь: «Я русский. Их бин руссиш. Уразумели? Прошу прекратить!» В ответ — хохот, издевательские реплики: «О, руссиш крафтменш! О! Ха-ха-ха!» Иван Иванович молча взял одного из насмешников за ворот и поставил перед собой: «Ты что, не понял? Я русский!» Остальные, опрокидывая стулья, бросились на выручку.
Шишкин прошелся медведем, расчищая себе дорогу к выходу. Оказавшись на улице, он дал волю кулакам, поработав ими в полную силушку. И по нечаянности зацепил совсем некстати подвернувшегося полицейского. На другой день Ивана Ивановича вызвали в участок. Явились пострадавшие. С опаской проходя мимо Шишкина, отводили глаза. «Ого! — подумал он невесело. — Их, оказывается, было семеро». Полицейский начальник тоже удивился, недоверчиво спросил: «Вас было семеро? А он один?» И расхохотался.
Шишкина, оштрафовали на 50 гульденов. «Это не за них, — указал начальник участка на семерых пострадавших, — это за нашего полицейского. Надо знать, господин Шишкин, кого бить.»
Едва дождавшись весны, Иван Иванович уехал в Швейцарию. Но и там ловил себя на мысли, что, находясь среди неописуемой красоты альпийских пейзажей, он все время ищет что-нибудь схожее с тем, что дорого и близко ему: то ли золотистые от солнца закамские сосны, то ли заросшие травой лесные ложбины. Для него, как и для многих его современников, образ русской природы был неотделим от идеи России, народа, его судьбы. Он тосковал по России. В 1866 году, до истечения срока своего пансионерства, Шишкин вернулся в Петербург. «О, Боже мой, я в России, я дома!» — радостно восклицал Иван Иванович.
Он начал много путешествовать, словно наверстывая годы, прожитые вдали от родины, много писал и выставлял свои произведения сначала в Академии художеств, а после того как учредилось Товарищество передвижных художественных выставок, — на выставках передвижников в Петербурге, Москве, Киеве и Одессе. В 1872 году Шишкин представил публике картину «Сосновый бор», вложив в нее всю свою душу. «Чтобы всяк, кто на картину глянет, понял, какая это радость — жить, ходить по родной земле, дышать полной грудью!»
РОЖЬ
Когда Шишкин делал еще первые шаги в живописи, в Москве случилась выставка И. К. Айвазовского. Иван с великим волнением и осторожностью, чтобы не нарушить торжественной тишины залов, переходил от картины к картине, сдерживая даже дыхание, но не в силах сдержать набатного, гулкого стука сердца. Он почти физически ощущал глубину моря, его живое, осязаемое дыхание.
Он не пытался понять феномен Айвазовского, скорее хотел понять себя самого. Он смотрел на море, а в памяти всплывало море закамских лесов, синие дали, осенняя желтизна хлебов, косари, краснощекие девки, ловко и туго стягивающие снопы; и песни — протяжные, раздольные и печальные, как осенние поля.
— Как Бог пишет этот Айвазовский! — поделился впечатлением сокурсник Ивана, когда, осмотрев выставку, они вышли на улицу.
—А я знаешь, о чем думал? Если море так хорошо на картинах, разве нельзя столь же превосходно писать и остальную природу? Ведь это же невозможно как было бы хорошо!
С тех пор зрела в Иване Шишкине, ждала своего часа мысль о чем- то значительном, счастливом. Он чувствовал эту мысль: хотелось написать пейзаж, в котором бы с предельной ясностью выразилась любовь к жизни, к родной земле, людям. Он еще не знал, не мог себе представить, что это будет за пейзаж, лишь смутным предчувствием жила в нем и не давала покоя мысль об этой прекрасной картине.
«Какая тайна и радость заключаются в окружающей нас природе! — делился он в письмах к отцу. — Сможет ли когда-нибудь человек все до конца понять или это немыслимо, невозможно? Все думаю, думаю, как это перенести на холст? Да сумею ли?»
«Сумеешь», — отец не сомневался в сыне. — Сам он дописывал «Историю города Елабуги», и этим светом озарена была его жизнь. Ухлопав свои небольшие средства на восстановление древней башни на Чертовом городище, на проведение в городе водопровода, он из второй купеческой гильдии перешел в мещанство. Но разве в деньгах счастье? Счастье — в самой жизни. Хотелось так прожить, чтобы всё вокруг становилось лучше. «Верь в себя, Иван, — писал он сыну, — ты еще такое сотворишь, что ахнем все!»
Но отец не дожил до того лета, когда приехал Иван Иванович в родную Елабугу уже маститым художником, у полотен которого, как и у полотен Айвазовского, часами стояли люди в задумчивости и удивлении: как же простыми красками можно передать столько?
Была отрадная пора сенокоса. Шумные, июльские дожди стремительно проносились над лесами и пашнями, коромысло радуги одним концом падало в Каму, другим — в Тойму, и все вокруг звенело, сверкало, полнясь бодрящей свежестью. Шишкин любил солнечные дни. Он много ходил и все чего-то искал, искал. высматривал и почти ничего не писал.
Но вот он набрел на ржаное поле и поразился его величию и размаху! Под тяжестью крупных колосьев стебли слегка наклонились, и тихий чуть слышный звон плыл над полем в сухом горячем воздухе. И откуда-то издалека, то ли из прошлого, то ли из будущего, брели навстречу могучие, состарившиеся в пути сосны. Шишкин сел прямо на траву, обхватил руками колени, и замер.
Созревшие колосья шелестели у самого уха. Низко над полем, чиркая крыльями по ржи, носились ласточки, видно, к дождю. И горизонт был затянут пепельно-сизой предгрозовой морочью. Но до грозы было еще далеко. Жарко синело над головой небо, душисто млела трава, отдавая полынной горечью, и так волнующе-спокойно было вокруг, что временами казалось — и не сидишь ты, а вместе с землей, вместе с этим золотистым полем и знойным предгрозовым небом, с этой пахучей теплой травой плывешь куда-то высоко-высоко, и полет этот длится долго-долго, тысячи лет...
Мир словно распахнулся перед Шишкиным. То, что долгие годы теплилось в душе смутным, неясным ожиданием, предчувствием чего-то большого и прекрасного, вдруг отчетливо возникло перед глазами. Иван Иванович поднялся и пошел вдоль поля, трогая руками колосья. В тот же день, не переводя духа, написал один за другим несколько этюдов.
— Нашел! — восклицал он. — Нашел наконец!
Все последующие дни он писал и писал. Рыжая колея дороги, вильнувшая и скрывшаяся во ржи, сосна, словно подпирающая небо своей зеленой верхушкой.
Работал без устали, жадно, с удовольствием. Лишь к вечеру начинал чувствовать, как деревенеет спина и немеют пальцы рук.
Лето кончилось. Иван Иванович вернулся в Петербург. Картина, в сущности, была начата, она жила в многочисленных этюдах, в мыслях и сердце художника. Он видел ее, знал, чего хочет, работал с подъемом и написал в короткий срок.
Всю зиму с Финского залива дули сырые промозглые ветры, а дома у Шишкина, в его мастерской, стояло лето, и воздух был пропитан предгрозовой свежестью, запахом спелой ржи.
|
|
— Батюшки! — был ошеломлен художник Крамской, войдя однажды к Ивану Ивановичу и увидев завершенную картину. Поле спелой ржи размахнулось во всю ее двухметровую ширь; бескрайнее, оно выходило за рамки картины и не было ему конца. — Что же вы натворили, Иван Иванович! Ах, какое богатство!
Шишкинская «Рожь» стала гвоздем Шестой выставки художников- передвижников.
Картина поражала своим композиционным размахом, и все удивлялись — как, в сущности, на небольшой площади художник смог развернуть такое огромное, почти необозримое пространство? Никто не мог сказать, откуда простота и волнующая, проникновенная поэзия? В мягкой ли, чистой, какой-то даже трепетной зелени, обрамляющей поле, в дороге ли, уходящей в глубину этого поля, в высоком ли небе или той непередаваемой любви художника к родной земле, из которой и явилось это чудо? Можно говорить о чем угодно, но главного так и не скажешь, потому что главное ведомо только самому художнику.
—Чувствуйте, ради Бога, чувствуйте, а не притворяйтесь! Пойте как птицы небесные, своими голосами! — наставлял Крамской молодых живописцев, указывая на полотно Шишкина. — И ничего не бойтесь, никаких терний в пути, ибо к истине есть только один путь — откровение.
«СРЕДИ ДОЛИНЫ РОВНЫЯ...»
Личная жизнь Ивана Ивановича складывалась тяжело. Его старший сын, рожденный в 1871 году, умер в трехлетнем возрасте. Жена Евгения Александровна, сестра художника Федора Александровича Васильева, умерла после шести лет супружеской жизни, оставив четырехлетнюю дочку и годовалого сынишку, который вскоре тоже умер. Иван Иванович избывал то одно, то другое горе.
Утешение находил лишь в работе да в общении с дочерью Лидочкой. И глубоко трогала его песня «Среди долины ровныя», написанная на слова уроженца Перми А. Ф. Мерзлякова.
Среди долины ровныя,
На гладкой высоте,
Цветет-растет высокий дуб
В могучей красоте.
Высокий дуб, развесистый,
Один у всех в глазах;
Один, один, бедняжечка,
Как рекрут на часах!
Взойдет ли красно солнышко —
Кого под тень принять?
Ударит ли погодушка —
Кто будет защищать?
Ни сосенки кудрявыя,
Ни ивки близ него,
Ни кустики зеленые
Не вьются вкруг него.
Ах, скучно одинокому
И дереву расти!
Ах, горько, горько молодцу
Без милой жизнь вести!
Есть много сребра, золота —
Кому их подарить?
Есть много славы, почестей —
Но с кем их разделить?
Однако же судьба улыбнулась Ивану Ивановичу. Через шесть лет одиночества он встретил прекрасную женщину — Ольгу Антоновну Лагоду.
Она была художницей, и настолько талантливой, что ее картины покупал Павел Михайлович Третьяков. Однако счастье супругов продлилось чуть больше года.
У них родилась дочь Ксенечка, но Ольга Антоновна умерла. Шишкин был безутешен! Только могучая творческая сила, которая жила в нем, питала душу как родниковая вода, не давала ему сломаться. Иван Иванович уходил в леса и поля, рисовал и каждый раз возвращался домой с кипой этюдов. В 1883 году он написал картину «Среди долины ровныя.».
В этой картине — песня, природа и душа художника слились воедино. Перед могучим дубом простирается половина земли, но никого нет рядом.
И все же спокоен дуб, благороден; колючие метели, ветры, дожди, засуха не сломили его, а только сделали устойчивее, упорнее; беды и невзгоды искривили ветви-руки, но и наполнили их силой. Дорога, сбегая с пригорка, ведет прямо к нему, и дуб убережет от палящего солнца, грозы и ливня каждого путника.
|
|
«Не так ли и русская душа? — думал за работой Иван Иванович. — Она выдержит всё. Всё преодолеет. И одарит каждого тем, что есть у нее.»
Картина «Среди долины ровныя.» была показана на Одиннадцатой передвижной выставке. Успех ее превзошел все ожидания. Привыкшие считать Шишкина «пейзажистом-лесовиком», зрители увидели перед собой обширную равнину и одинокого богатыря, понимая, что это не только пейзаж, но и автопортрет художника.
УТРО В СОСНОВОМ ЛЕСУ
В своих путешествиях Шишкин часто забирался в такие лесные дебри, в такую глухомань, куда и птица не всякая залетит. Отыскивал подходящее место, основательно устраивался, облюбовав какую-нибудь валежину, так и этак прицеливался, прищурив глаз, и — взмахивал кистью как волшебной палочкой. А потом друзья-художники терялись в догадках, глядя на шишкинский пейзаж: скомпоновал ли он его, взял ли непосредственно с натуры, ничего не добавляя и не придумывая, или в самом деле кисть его обладала какой-то колдовской завораживающей силой.
Как-то вечером в мастерскую к Шишкину пришел художник Савицкий, хитро посмеиваясь:
— Хотите, Иван Иванович, интересный замысел подарю?
— С чего же такая щедрость? — удивился Шишкин. Не принято у художников раскидываться замыслами.
— Да понимаете, там фоном должен быть лес, — продолжал улыбаться Константин Аполлонович. — Лес я писать не мастер.
— И что? — спросил Шишкин.
Савицкий изложил идею.
— Ах, и хорошо! — поразился Иван Иванович. — Ну что ты скажешь! Надо готовить холст.
Все последующие дни Шишкин находился под впечатлением разговора с Савицким, кажется, ни на минуту о нем не забывая. Холст натянул на подрамник, установил чуть наклонно, нетронутый, чистый, и на белое поле его ровно ложился дневной свет. Младшая дочь Шишкина, заметив возбуждение отца, забегала в мастерскую, спрашивала:
— Папенька, ты что задумал?
— А вот представь себе: вечер, потрескивают дрова в камине, а ты сидишь у меня на коленях, и мы вместе слушаем сказку.
Потом в мастерской наступила тишина — это Иван Иванович в своей старой-престарой блузе, широко расставив ноги, стоял у холста и шлепал по нему кистью: палитра в левой руке, в правой кисть. И вид у него воинственный, решительный. Шлепает по холсту — и все в одном и том же месте, добиваясь нужного тона.
Пришел Савицкий, поинтересовался:
— Мажешь?
— Мажу, да еще как!
— В четыре руки сегодня поработаем.
Савицкий писал медведей, Шишкин — утренний бор.
— Россия — страна пейзажа, — говорил за работой Иван Иванович. — Нигде нет таких лесов, такого раздолья, тайн и возможностей.
— Неужели вас не угнетает уединение в лесу? — недоумевал Савицкий.
Шишкин вспомнил свое Прикамье, где могучие корни сосен пересекают проселочные дороги, так что колеса телег подпрыгивают и грохочут на них, где не хочется ни о чем говорить, а только смотреть бы и смотреть на пробегающие мимо сосны, неимоверно разросшиеся вширь и ввысь, или молча свернуть с дороги и войти в зовущую глубину леса.
— Общение с природой не может угнетать, — ответил он коллеге. — Перед тобой открывается целый мир. Вот медведи-то ваши, баловни, не устанешь любоваться.
|
|
И тут Шишкин вспомнил про знакомого мужичка в Елабуге, который однажды попенял ему: «Труженик горб гнет, руками своими сполняет дело, а ты бездельем маешься!» Тогда Шишкин даже не предполагал, какой это труд, быть художником. Упорный, повседневный. И никаких скидок, поблажек самому себе, никакого деления на «главное, основное, второстепенное» — в искусстве все главное.
За написанием картины художники переговорили о многом.
— Очень важно чувствовать отчий край, — соглашался Савицкий. — Что были бы Пушкин и Гоголь без этого чувства?
Когда картина была окончена, Савицкий наотрез отказался ставить на ней свою подпись:
— Что вы, Иван Иванович! Мои медведи только подмалевок. Разве это сравнимо с вашим вкладом? Подпись должна быть только ваша.
И все же в Москву на выставку картина отправилась за двумя подписями. Константин Аполлонович сердился:
— Убили мы медведей и шкуру поделили! — и стер с холста свою фамилию. Судьба «Утра в сосновом лесу» оказалась легендарной. Нет на земле уголка, где бы не знали и не любили эту картину. Люди не устают слушать лесную сказку, которая для каждого звучит по-разному. Поколение за поколением пытается разгадать тайну этого шедевра, но. — это навсегда секрет.
НА СЕВЕРЕ ДИКОМ
В последние годы жизни Ивану Ивановичу было одиноко. Старшая дочь Лида вышла замуж и уехала в Финляндию, став хозяйкой усадьбы Мери-Хови, где-то среди холодных бесприютных скал на берегу залива. Звала отца погостить, подзадоривала: «Природа здесь неброская, но удивительно своеобразная, — так и просится на холст».
Но собрался Иван Иванович далеко не сразу.
Когда приехал, его встретили радушно. Он отдыхал в Мери-Хови и работал почти с удовольствием. Написал на пленэре несколько зимних этюдов, чистых, светлых по колориту. Но все что-то силился вспомнить, когда вечерами читал стихотворение Лермонтова:
На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна,
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.
И снится ей все, что в пустыне далекой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.
Шел к столу и тихо перекладывал с места на место рисунки. И вспомнил!
Остров Валаам. Там, на высоком каменном утесе стояла сосна. Она была не очень высока, с кривым толстым стволом, но столько в ней было внутренней красоты и силы, так мощно стояла она на скале, что пройти мимо ни за что было нельзя. Он тогда написал с нее этюд. «Где этот этюд? Надо поискать в мастерской в Петербурге.»
|
|
Иван Иванович загорелся новой картиной, и поспешил домой, чтобы скорее взяться за работу. А в Петербурге ждали его друзья, у них накопились новости, которыми они торопились поделиться. Однако их рассказы мало увлекали Шишкина, он был во власти своей новой картины «На севере диком». Писал, казалось, легко, но это лишь вешняя сторона, главное было в душе художника.
В одинокой сосне на горючем утесе он видел себя. Душа наполнялась обидой на несправедливость жизни, рано отнявшей старшего брата, двух сыновей, милую Женечку — мать Лиды, и Ольгу Антоновну — мать младшей дочери Ксении. Так тесно, так неуютно было дома! И всё доносилась до Ивана Ивановича какая-то песня без светлого начала и радостного конца.
Окончив картину, Шишкин показал ее друзьям. Они были удивлены необычностью избранной темы и даже каким-то не «шишкинским» решением — картина была написана в холодных тонах. Архип Иванович Куинджи долго смотрел на нее, прищурив острые глаза, качая головой: ну и ну! Нет, в самом деле, вышло что-то не «шишкинское». По его мнению, чего-то не хватало в картине. Он все присматривался так и этак. Да, чего-то не хватает. Во всех полотнах Шишкина было жизнелюбие, а здесь как будто все умерло. Куинджи схватил кисточку, и Шишкин не успел рта раскрыть, как он ткнул ею в холст между ветвями сосны, обозначив желтым кадмием крохотный огонек в студеных застывших далях.
— Вот! — кисть замерла над холстом, и Шишкин испуганно ее отстранил.
Но огонек, сделанный Архипом Ивановичем, убрать рука не поднялась — он был как надежда среди безысходности.
Как ни странно, но именно этот огонек вывел Шишкина из угрюмого состояния, в котором он находился очень давно. Жизнь продолжается, какою бы она ни была. Надо жить, и надо, чтобы вокруг тебя было светло. Ведь только светом ты можешь отблагодарить Всевышнего за свое пребывание на земле.
КОРАБЕЛЬНАЯ РОЩА
Картина Шишкина «Корабельная роща» стала его завещанием потомкам. Еще молодым человеком, живя за границей, Иван Иванович почувствовал нечто тревожное над Россией, но в чем оно заключалось, и сам не знал. «А будущее не веселит, и сильно не веселит», — писал он на родину. Через несколько лет это предчувствие оказалось пророческим: в России началось беспощадное истребление лесов. «Разве не варварство, — возмущался художник Крамской, — желание поскорей добыть себе блага путем мошенничества, прокучивания общественного богатства, лесов, земли за целые будущие поколения?!»
Шишкин отчетливо слышал пульс времени. Вселялось в душу смятение, предчувствие чего-то непоправимого. Возобладавшая в русском обществе «теория отрицаний» выбивала людей из нормальной жизни. Иван Иванович, и как человек, и как художник, не мог согласиться с этой теорией. В ней, как указывалось теоретиками, «нет места ни вере, ни правде, ни энергии воли».
|
|
Не мог, потому что, в отличие от многих своих соотечественников, не испытывал разлада между мыслью и духом. Этим он и спасался. В его картинах все получало свое истинное лицо, без прикрас и убавок. И всегда в его творчестве имелось то художественное нечто, что сообщало его искусству цельность, значительность и убедительность.
О, сколько воспоминаний художника было связано с лесом! Однажды в пригороде Елабуги он встретил старуху в истертом до блеска цилиндре.
«— Здравствуй, батюшка! — поздоровалась Надежда Андреевна Дурова, давно отвыкшая от своего имени и называвшая себя — «Александров». Ей доходил восьмой десяток, но память ее была светла, она помнила свою жизнь до мельчайших подробностей. Это была удивительная жизнь! Нескольких месяцев от роду мать выбросила дочь из окна кареты. Гусары подняли окровавленного ребенка и отдали подскакавшему отцу. С тех пор седло стало для нее колыбелью. Сорвиголовой росла девочка! В юном возрасте вступила в казачий полк, присвоив себе мужское имя, став корнетом Александровым.
|
|
Дралась с наполеоновскими вояками, имела честь быть ординарцем фельдмаршала Кутузова. В отставку вышла в чине штабс-ротмистра и написала «Записки» о своей полной приключений жизни.
— Что, рисуешь, батюшка? — спросила Дурова. Последние годы она жила в Елабуге в маленьком домике.
— Сосны. Хочется повести людей за руку в леса, чтобы увидели, как хорош мир!
День был сухой и теплый. Старуха посмотрела вокруг, затем перенесла взгляд на этюд: краски, смешиваясь, густыми и буйными мазками лежали на холсте.
— Достойно восхищения! — горячо похвалила Надежда Андреевна. — Вы оставляете потомкам незабвенный образ Родины! Да, да! Любовь к ней и веру в ее будущее».
В картине «Корабельная роща» Шишкин написал сосны, как колонны Божьего храма. Блики солнца играют в теплых водах ручья, на камнях, на стволах, заставляя ощущать, словно в яви, запах смолы и хвои. Вся картина — песня сыновней любви к своей отчизне. А плетень через речку — предупреждение тем, кто безжалостно истребляет природу: не двигаться дальше!
|
Все переполненное чувствами сердце свое вложил Иван Иванович в «Корабельную рощу». Он относился к природе с религиозным благоговением. «Здравствуйте! — ежегодно весной здоровался Шишкин с деревьями, как с родными людьми. — Вот и снова мы вместе!» Он понимал, что природа и человек в нераздельной связи между собой. Выруби лес, — погибнут звери и птицы, пересохнут ручьи и болота, обмелеют реки, резко изменится климат, и потеряется в людях то равновесие, которое есть лишь тогда, когда человек находится в мире с Богом и самим собой. Василий Григорьевич Перов (1834 – 1882)
|
САВОЯР
Василий Григорьевич был внебрачным сыном выходца из Эстонии барона Григория Карловича Криденера. Родился в Тобольске, где Криденер служил прокурором. Родители Василия обвенчались уже после его рождения, поэтому добиться, чтобы сын носил фамилию отца, было невозможно: закон того времени не признавал внебрачных детей. Прокурор Криденер дружил с ссыльными декабристами, писал сатирические стихи, вольнодумствовал и вообще сильно досаждал тобольским чиновникам. За сатиру в адрес большого начальника, Криденера понизили по службе, а потом и вовсе выжили из города. В поисках новой службы Григорий Карлович объехал множество мест, и наконец обосновался с семьей под Арзамасом.
Чего только не повидал в детстве Василий! Всё это оставило неизгладимый след в его душе. Очень рано, лет с пяти, мать начала учить его грамоте, потом передала учителю — невзрачному, но умному и веселому дьячку. Особенные успехи мальчик делал в чистописании и за это дьячок прозвал его «Перов». Так и стало «Перов» второй фамилией будущего художника.
В десять лет Василия отдали в арзамасское уездное училище, а через три года — в арзамасскую живописную школу Ступина.
Школа была замечательная! Александр Васильевич Ступин «явился первый заводитель дела необыкновенного». Он окончил Академию художеств, никогда не терял с Академией связи, и все, кто учился в его школе, получали разносторонние и обширные знания. Перов был одним из лучших учеников Ступина, но однажды, поссорившись с товарищем, объявил, что не намерен сносить оскорбления, бросил школу и пешком вернулся домой. Ему шел семнадцатый год.
В деревне Василий ходил на охоту, пристрастившись к ней на всю жизнь, ставил силки на птиц, ежась в прохладе раннего утра, слушая еще робкие лесные звуки; научился любить и понимать природу. С карандашом и красками он не расставался. Писал портреты друзей, написал автопортрет и портрет отца — к тому времени уже сильно больного. Кисть набирала уверенность, и Перов решил поступать в Московское Училище живописи. Родители не перечили, только матери все казалось, что художество занятие не мужское, картинами не прокормишься. И все-таки поехала вместе с сыном, устроив его на постой к смотрительнице женского приюта Марье Любимовне.
Добрейшей души оказалась эта женщина. Перов три года прожил в приюте, пока Марья Любимовна не умерла. Отец не мог высылать ему денег, и Марья Любимовна кормила его на свои скромные средства. Когда наезжало начальство, она прятала Василия под кровать. После смерти Марьи Любимовны Перова взял к себе преподаватель училища Егор Яковлевич Васильев, улыбчивый и бескорыстный холостяк, отведя ему угол в своей квартире.
Летом Василий уезжал домой. Отца уже не было в живых, семья очень нуждалась, но он не бросал занятия живописью. Возвращаясь в Москву, был полон волнующих замыслов, пытаясь воплотить их в своих произведениях.
Обстановка в российском обществе была напряженной. Все еще существовало крепостное право, и лучшие умы России открыто выступали за его отмену. Перов стал одним из первых среди живописцев, кто осмелился резко и прямо показать последствия социального неравенства. Его картина «Приезд станового» была удостоена Большой серебряной медали, а за картину «Проповедь на селе» художник получил Большую золотую медаль и право на заграничную поездку.
В декабре 1862 года Василий Григорьевич выехал в Париж. По дороге он знакомился с музеями Берлина, Дрездена, бывал в мастерских художников.
Но прежде всего его интересовала жизнь простого народа. Здесь, в Европе, он убедился, что бедным живется нисколько не лучше, чем в России. Каждый раз, когда голод в альпийских долинах становился невыносимым, савойские бедняки посылали своих ребятишек в города. На ярмарках, в гостиницах, на шумных торговых улицах мальчики из горной Савойи — департамента на юго- востоке Франции — попрошайничали, пели, играли на дудочках или водили на поводке дрессированных сурков, которые умели вынимать из коробки «счастливый билетик» и танцевать. Была даже мода на мальчиков-савояров с сурками, — танцующие зверьки нравились светским дамам, но рассчитывать уличные артисты могли лишь на мелкую монетку, выброшенную из окна.
В XIX веке была очень популярна песня «Сурок», написанная композитором Бетховеном на слова Гёте и включенная в репертуар всех без исключения шарманщиков и уличных певцов:
Из края в край вперёд иду,
Сурок всегда со мною,
Под вечер кров себе найду,
И мой сурок со мною.
Подайте грошик нам, друзья,
Сурок всегда со мною.
Обедать, право, должен я,
И мой сурок со мною.
Кусочки хлеба мне дарят,
Сурок всегда со мною.
И вот я сыт, и вот я рад,
И мой сурок со мною.
Такого мальчика Василий Григорьевич изобразил на картине «Савояр». Художник хотел привлечь общественное внимание к этим обездоленным детям, вызвать сочувствие к ним. Мальчик устал; присел отдохнуть в уголке на каменном парапете, да так и уснул, не выпуская из рук дудку, под которую целыми днями танцует его сурок. На мальчике рваная одежда, стоптанные башмаки... рядом упала шляпа. Голова мальчика слишком большая для его тела, что говорит о постоянном недоедании. Сурок с выпавшей шерсткой на шее и голове — тоже от голода — приткнулся к его плечу.
Василий Григорьевич не случайно изобразил две эти живые души на фоне холодных городских стен: нищета, горе, бесправие — результат равнодушия общества.
Жизнь в Европе стала его тяготить. То и дело на глаза попадались голодные люди. Одни добывали себе пропитание, таская весь день шарманку, наполняя ее механическими мелодиями городские улицы, другие выступали в дешевых балаганах; а были и просто бродяги, оборванные и грязные. Василий Григорьевич написал об этом несколько картин и стал настойчиво просить высшее академическое начальство «уволить от чужих краев», разрешить вернуться домой. «Посвятить себя на изучение страны чужой я нахожу менее полезным, чем по возможности изучить и разработать бесчисленное богатство сюжетов как городской, так и сельской жизни нашего отечества».
|
|
Просьба Перова была удовлетворена, и он досрочно вернулся в Россию.
ТРОЙКА
Василий Григорьевич был человеком с большим сердцем. Был зрячим и не боялся говорить о том, что видит. Страдал за людей, загнанных нуждой, и старался помочь им хотя бы кистью: картины увидят все классы, и всем мысль художника будет ясна, доступна, и будет стыдно сидеть сложа руки, каждый захочет исправить, залечить страшные раны общества.
Его ужасала беззаботность богатых, когда рядом столько нищих, ряды которых всё пополняются крестьянами из разорявшихся деревень. Оборванные ребятишки, отданные по сиротству в подмастерья, было уже типичной московской картиной. Зимой в легкой одежке, в ветхих солдатских ботинках, таких, что подошвы ног примерзают к подметкам, они колют дрова, топят печи, с тяжелыми санками ходят на реку за водой. Был случай, когда на глазах у Перова трое детей не смогли удержать бочку с водой — сани катились вниз, бочка опрокинулась и превратила скат в сплошную ледяную гору. Закоченевшими руками дети водворили бочку на место и вновь направились к проруби.
У художника возник замысел написать картину «Тройка».
В тридцатиградусный мороз, по крутому взвозу, занесенному снегом, напрягая свои слабые силенки, тянут дети обледенелые сани, на которых стоит бочка с водой. Тянут рывками, отчего вода все время расплескивается, делая дорогу еще более скользкой. За день им нужно совершить несколько таких ходок, — вода нужна для бытовых нужд и для скотины.
Работая над картиной, Перов подыскивал мальчика-«коренника» — тип, который бы отвечал его художественному замыслу.
Как-то в весенний солнечный день художник оказался у Тверской заставы. Мимо шли богомольцы на поклонение московским чудотворцам: в весеннюю пору народ во множестве тянулся к монастырям, отыскивая помощи или ответа на свои сомнения. У самой заставы Перов заметил старушку с мальчиком. Подошел ближе к мальчику и невольно был поражен тем типом, который искал! Он завел со старушкой разговор, спросил, между прочим: откуда они и куда идут? Старушка ответила, что они из Рязанской губернии, добираются к Троице-Сергию и хотели бы переночевать в Москве, да не знают, где приютиться. Художник вызвался показать им место ночлега.
Отправились вместе. Старушка шла медленно, немного прихрамывая. Василий Григорьевич обдумывал, как бы начать с ней объяснение? Не придумав ничего лучше, предложил денег. Старушка пришла в недоумение и не решалась брать. Тогда уже по необходимости, он сразу высказал ей, что хочет написать с мальчика портрет. Старушка ничего не поняла, но все-таки согласилась посмотреть мастерскую художника. В мастерской Перов показал ей картину, растолковал, в чем дело, но старушка перепугалась! Стала отказываться, ссылаясь на то, что им некогда, что «списывать с человека» — это великий грех, а, кроме того, она слыхала, что от этого люди не только чахнут, но даже и умирают.
— Это неправда, — стал уверять художник. — Это сказки! Цари и архиереи позволяют писать с себя портреты, а святой евангелист Лука сам был живописец. Есть много людей, с которых написаны портреты, но они не чахнут и не умирают.
|
|
Старушка колебалась. Он привел ей еще несколько примеров и предложил хорошую плату. Она подумала и наконец согласилась. Сеанс начался немедленно.
Старушка поместилась тут же неподалеку, рассказывая о своем житье- бытье, посматривая с любовью на сына Васеньку. Из ее рассказов можно было заметить, что она вовсе не так стара, как Перову показалось с первого взгляда; лет ей было немного, но трудовая жизнь и горе состарили ее прежде времени.
Тетушка Марья, так ее звали, рассказывала о своих тяжелых трудах и безвременье, о болезнях и голоде, о том, что схоронила своего мужа и детей и осталась с одним-единственным Васенькой.
Поблагодарив ребенка за труд, Перов рассчитался с женщиной, проводил их до места ночлега и попросил, чтобы завтра они вновь явились к нему. На другой день он окончил голову «коренника».
Прошло около четырех лет. Художник забыл и старушку, и Васю. Картина давно висела в галерее Третьякова.
Раз в конце страстной недели, рано утром, Перову сказали, что какая-то деревенская старуха ожидает его в передней. Он вышел и увидел перед собой маленькую, сгорбленную женщину. Она стояла, опираясь на длинную палочку; неестественной величины лапти были покрыты грязью. Василий Григорьевич спросил, что ей нужно?
Старушка долго безучастно шевелила губами, бесцельно суетилась и, наконец, вытащив из кузова яйца, завязанные в платочек, подала художнику, прося принять их и не отказать ей в великой просьбе. Но едва художник задал вопрос, в чем суть ее просьбы, как мгновенно лицо старушки всколыхнулось, губы нервно задергались, маленькие глазки часто-часто заморгали, она начала какую-то фразу, долго и неразборчиво произносила одно и то же слово и не имела сил досказать этого слова до конца.
— Батюшка, сынок-то мой, — начинала чуть не в десятый раз, а слезы текли и не давали ей говорить.
Перов подал ей воды. Она отказалась. Предложил сесть — она осталась на ногах, и все плакала, утираясь мохнатой полой своего заскорузлого полушубка.
Наконец наплакавшись и немного успокоившись, объяснила, что сынок ее Васенька прошлый год заболел оспой и умер. Похоронив Васю, распродав весь скарб и проработав зиму, она скопила деньжонок и пришла к художнику, чтобы купить картину. Она не винила художника в смерти сына, нет, на то воля Божия, но Перову самому казалось, как будто в ее горе отчасти виновен и он. Заметил, что старушка думала так же, хотя и не говорила. Дрожащими руками она развязала платочек с завернутыми в него сиротскими деньгами, но Василий Григорьевич объяснил ей, что картина давно уже продана. Тогда старушка стала просить, нельзя ли хоть посмотреть на нее? Перов ответил, что посмотреть она может, и велел явиться на другой день.
Она пришла рано утром. Вместе отправились к Третьякову. Художник попросил у Павла Михайловича разрешения показать старушке галерею, и тотчас же его получил. Пошли по богатым комнатам, увешанным картинами, но старушка ни на что не обращала внимания. Придя туда, где висела «Тройка», Перов предоставил ей самой найти ту картину, на которой изображен ее сын. Старушка обвела комнату своим кротким взглядом и — стремительно направилась к «Тройке»! Приблизившись к картине, остановилась, всплеснув руками, и как-то неестественно вскрикнула:
— Батюшка ты мой! Родной ты мой, вот и зубик-то твой выбитый!
И с этими словами она, как подкошенная, повалилась на пол.
Предупредив слугу, чтобы не беспокоил ее, Перов поднялся в кабинет к Павлу Михайловичу. Пробыв у него около часа, вернулся. Следующая сцена представилась ему: слуга, с увлажненными глазами, прислонившись к стене, показал на старушку и быстро вышел. Старушка стояла на коленях и молилась на картину. Она молилась горячо и сосредоточенно. Ни приход художника, ни шаги ушедшего слуги не отвлекли ее внимания. Так продолжалось еще часа полтора. Перекрестившись и поклонившись еще несколько раз до земли, старушка наконец проговорила:
—Прости, мое дитятко, прости, милый Васенька! — встала и, обернувшись к Перову, начала благодарить, кланяясь в ноги.
Переполненный состраданием к ней, Василий Григорьевич пообещал написать портрет Васи. Через год он выполнил свое обещание. Украсил портрет позолоченной рамкой и выслал старушке в деревню. Спустя некоторое время получил от нее письмо. Она сообщала, что лик Васеньки повесила к образам и молит Бога о его упокоении, и о здравии художника.
«Мало слов, а горя реченька!..» — думал Перов, читая корявые строки.
СТРАННИК
Картина «Странник» была написана Перовым с бывшего крепостного Христофора Барского. Она явилась обвинительным актом русскому правительству. После отмены крепостничества в 1861 году, крестьяне так и не получили веками ожидаемой земли. Им лишь предоставили право идти на все четыре стороны или втридорога выкупать у помещиков самую захудалую землю. Европа приветствовала «великую российскую реформу», Россия же пополнилась целой армией нищих.
— Як вам с великой просьбой, — пришла однажды к Перову Вера Николаевна Добролюбова. — У своих знакомых я видела на дворе старика. Он колол дрова. Ему восемьдесят четыре года. Бывший крепостной целого десятка господ, к которым он переходил из рук в руки. Теперь же — свободный человек, то есть брошенный человек, ходит по дворам и отыскивает работы. Я предлагала ему денег, но он не берет: «Не пришла еще пора жить Христовым именем». Вы, Василий Григорьевич, вхожи к меценату Щукину, он, говорят, выстроил приют для бедных. Нельзя ли вам попросить его о приюте для этого несчастного?
Перов обещал, и на другой день к нему, постучав, вошел старик благородного и даже аристократического вида. Наклоненная несколько набок голова, сосредоточенные и уже потухающие глаза, борода, напоминающая цвет подержанного серебра.
Имя старика было Христофор Барский. Вместе они отправились к Щукину.
—А! Господин художник! — встретил меценат. — Очень рад! Садитесь, пожалуйста.
— У меня к вам дело, — объяснил свой визит Василий Григорьевич. И рассказал о Барском.
Тронутый положением старика, Щукин дал слово непременно поместить его в приют.
— Впрочем, не знаю, есть ли там теперь свободные места? Если нет, придется подождать недельку-другую.
Дело, казалось, было решено.
Прошло больше месяца. Барский за неимением места в приюте, помещен в него не был, но ходил туда аккуратно, как было велено, в ожидании благ земных. Наступила зима. Он по-прежнему работал у кого-нибудь на дому: носил воду, сгребал снег. Кашлял, хрипел, ночуя то в сенях, то в сарае, а за особую милость — на кухне.
В приют же за это время уже приняли несколько мещан и даже одного промотавшегося купца.
В феврале Перов снова отправился к Щукину вместе с Барским.
— А! — хозяин вперевалку подошел к Барскому. — Как же ты, любезный, до сего времени не в приюте?
Барский низко поклонился ему и закашлялся. Спустя минуту, тяжело дыша, ответил:
— Все еще места нет, ваше степенство. До сего времени еще не освободилось ни одного места. Вот какое горе. Не допустите, батюшка, умереть мне на улице, — и он упал к ногам Щукина, так что тот отпрыгнул в сторону.
— Встань, встань, старик! — зачастил Щукин. — Я тебе говорю, встань! Не люблю я, чтобы мне поклонялись. Богу надо поклоняться, а не человеку. Умирать тебе, любезный, рано. Еще мы с тобой поживем на славу! Помещу я тебя в приют, помещу! А когда ты там отдохнешь, соберешься с силами, мы выберем тебе старушку помоложе, сосватаем вас, да и женим! И будете вы жить в удовольствие, не выпуская друг друга из объятий. Чего доброго, еще и дети пойдут. Не правда ли? — весело подмигнул Перову.
Перов молчал. Лакей во фраке, стоявший возле двери, фыркнул, прикрыв рот ладонью.
— Ну-с, — повернулся к старику Щукин, — сейчас напишу письмо, и будь уверен, что завтра же ты будешь в приюте. Только смотри, любезный, уговор: старух моих не развращать!
|
|
Лакей уже бесцеремонно хохотал, а Барский смотрел в пол и беззвучно шевелил губами.
— Дождитесь письма и прямо отсюда в приют, — простился со стариком художник. Но тот не шевельнулся: он, по-видимому, не слышал его.
А наутро случилось то, чего Перов никак не ожидал: Барский пришел к нему сказать, что в приют не пойдет.
— Почему же?..
— А вот почему, — старик закинул голову, глядя на художника в упор.
— Мне, сударь, как вам известно, восемьдесят четыре года. Лет семьдесят я гнул спину и претерпевал всякого рода несправедливость и оскорбления. Лет семьдесят честно служил господам и остался на старости лет нищ и убог, как вы сами изволите видеть. Встретила меня милосердная барыня Вера Николаевна, сжалилась над моим положением и указала мне путь через вас, государь мой, обратиться к известному всем господину Щукину. Были мы с вами у него, и вы изволили видеть, что это за благодетель и что за человек. Я его молил о помощи, а он насмехался надо мной. Шел я к нему с любовью и надеждой, а вышел с тоской и отчаянием. С тоской о том, сударь, что не кончилось еще рабство, и, должно быть, никогда не будет ему конца! Семьдесят лет, сударь, издевались надо мною разные господа мои, я был в их глазах не человеком с разумом и чувством, а какой-то вещью. И что я узрел вчера? Снова нужно вступать в это рабство, видеть и слышать, как издеваются над полумертвым. — Барский полез за пазуху, вынул письмо Щукина и отдал Перову. — Возьмите, сударь, возвратите его господину благодетелю.
Он ушел, но Перову все еще слышались его слова. Столько достоинства было в них, столько духовной силы! Ясно, что Барский предпочтет бродяжничество, нищенство, но никому не позволит забавляться своей бедой.
ОХОТНИКИ НА ПРИВАЛЕ
Среди жанровых работ, представленных Василием Григорьевичем Перовым на Первой передвижной выставке, наибольший успех имели «Охотники на привале». Все три героя картины — известные московские врачи, страстные охотники и друзья Перова. В образе рассказчика художник вывел Дмитрия Павловича Кувшинникова. Бессребреник и большой гуманист, Дмитрий Павлович работал на самом тяжелом участке Москвы — в районе Хитрова рынка, где проживала голь перекатная — московское дно. Голытьба уважала его и любила. Квартира Кувшинниковых, в том же районе Хитрова рынка в Малом Трехсвятительском переулке, была местом, где собирались писатели, художники, артисты. Здесь впоследствии часто бывали Репин, Левитан, Чехов. Кто же не помнит чеховскую «Попрыгунью», где автор вывел Кувшинникова под фамилией Дымов. Однако же сам Кувшинников не столько интересовался искусством, сколько уважал интересы своей жены.
Перов сошелся с Кувшинниковым через своего друга Бессонова. Потом они часто охотились вместе. Во время привалов Дмитрий Павлович рассказывал охотничьи байки, Василий Владимирович Бессонов скептически чесал за ухом, а их коллега, двадцатишестилетний Николай Михайлович Нагорнов, принимая охотничьи преувеличения за чистую монету, слушал с восторженным удивлением.
Дочь Нагорнова писала исследователю творчества В. Г. Перова:
«Кувшинников был одним из ближайших друзей моего отца. Они часто ездили
-105-на охоту по птице. У отца была собака, и поэтому собирались у нас: Дмитрий Павлович, Николай Михайлович и Василий Владимирович. Они изображены в «Охотниках на привале». Кувшинников рассказывает, отец и Бессонов слушают. Отец — внимательно, а Бессонов — с недоверием».
После того как картина появилась на выставке, имя Дмитрия Павловича Кувшинникова стало популярным не только в медицинских, но и в литературных, художественных и театральных кругах! С Бессонова художник написал отдельный портрет, который потом экспонировался на Всемирной выставке в Париже вместе с картиной «Охотники на привале».
«Охотники» полюбились абсолютному большинству зрителей своим добродушием и строгой поэзией осеннего пейзажа (в изображении которого принял участие А. К. Саврасов). В творчестве Перова это полотно сыграло роль связующего звена между его сатирическими и острокритическими произведениями. Здесь художник стремился ближе подойти к человеку, проникнуть в круг его нехитрых интересов. Художественные методы Перова и развитие заложенных им начал продолжили И. Е. Репин, И. Н. Крамской и отчасти В. И. Суриков. Достижения Перова в области психологического анализа были одинаково значительны и для исторической живописи, и для портрета.
|
|
Иван Николаевич Крамской (1837 - 1887)
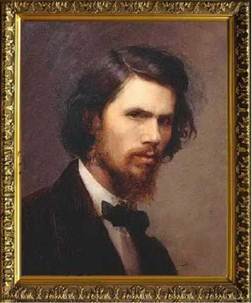
РУСАЛКИ
Шел 1862 год, только что пало крепостное право. Академия художеств напрасно пыталась закрыть свои двери перед напором новых идей. С разных концов государства учились в ней хлебнувшие горя дети разных сословий, начиная активно выступать против академической рутины.
Пылкий Крамской говорил товарищам:
— Пора, друзья, пора нам становиться на собственные ноги. Нужна своя, русская национальная школа. И кроме нас, никто этого не сделает!
Осенью 1863 года лучшие ученики Академии — Крамской среди них — с волнением ждали конкурса на золотую медаль. Получивший медаль сможет учиться за границей, посещать лучшие музеи мира и своими глазами увидеть творения старых мастеров.
«Наконец, зовут нас,—позже вспоминал Крамской. — Входим. Конференц-секретарь Львов прочел нам сюжет: «Пир в Валгалле» из скандинавской мифологии, где герои-рыцари вечно сражаются, где председательствующий -- бог, у него на плечах сидят две вороны, у ног два волка, и, наконец, где-то в небесах, между колоннами, месяц, гонимый чудовищем в виде волка, и много другой галиматьи». Произошло небывалое. Крамской отделился от группы выпускников и, не дрогнув перед начальством, от имени всех конкурентов на золотую медаль объявил отказ писать на заданную тему.
Воцарилось ошалелое молчание.
— Все? — спросил Львов, скрывая бешенство.
— Все, — ответил Крамской.
И четырнадцать лучших учеников вышли из аудитории. Они лишились медали, заграничной поездки, оборудованных мастерских, без гроша в кармане, — но они были счастливы, они не изменили своему богу — России, всей горькой и сладостной любви к ней, которая только тогда и любовь, когда во всем — вместе.
О происшествии в Академии художеств было запрещено не только упоминать в печати, но и говорить.
Однако же город наполнился слухами. Один из самых образованных людей своего времени, пламенный борец за все русское критик Владимир Васильевич Стасов горячо поддержал отступников. Громкий голос его статей доходил до самых дальних уголков страны.
Чтобы не погибнуть в неравной борьбе, молодые художники решили жить артелью. Наняли большую квартиру, где у каждого была своя рабочая комната.
По вечерам все собирались вместе, читали, размышляли вслух. Заказы принимали сообща—это был заработок, на который можно покупать продукты, одежду, холсты и краски. Но главной целью было писание картин, таких картин, которые бы рассказывали о России!
Иван Николаевич Крамской выбрал для себя сцену из «Майской ночи» Гоголя.
«Давно, мое серденько, жил в этом доме сотник. У сотника была дочка, ясная панночка. Сотникова жена давно уже умерла; задумал сотник жениться на другой. Привез сотник молодую жену в новый свой дом. Хороша была молодая жена. Румяна и бела была молодая жена; только так страшно взглянула на свою падчерицу, что та вскрикнула; и хоть бы слово во весь день сказала суровая мачеха. Настала ночь; ушел сотник с молодою женой в свою опочивальню; заперлась и белая панночка в своей светлице. Глядит: страшная черная кошка крадется к ней; шерсть на ней горит, и железные когти стучат по полу. В испуге вскочила она на лавку, — кошка за нею. Перепрыгнула на лежанку, — кошка и туда, и вдруг бросилась к ней на шею и душит ее. С криком оторвавши ее от себя, кинула на пол; опять крадется страшная кошка. Тоска ее взяла. На стене висела отцовская сабля. Схватила ее, и бряк по полу — лапа с железными когтями отскочила, и кошка с визгом пропала в темном углу.
Целый день не выходила из своей светлицы молодая жена; на третий день вышла с перевязанной рукой. Угадала бедная панночка, что мачеха ее ведьма и что она ей прорубила руку.
Выгнал сотник свою дочку босую из дому и куска хлеба не дал на дорогу. Зарыдала панночка:
— Погубил ты, батьку, родную дочку свою! Погубила ведьма грешную душу твою!
Кинулась панночка с высокого берега в воду.
С той поры все утопленницы выходят в лунную ночь в панский сад греться на месяце; и сотникова дочка сделалась над ними главною. В одну ночь увидела она мачеху свою возле пруда, напала на нее и с криком утащила в воду. Но ведьма и тут нашлась: оборотилась под водою в одну из утопленниц.
|
|
Панночка всякую ночь собирает утопленниц и заглядывает поодиночке в лицо, стараясь узнать, которая из них ведьма».
Творчество Николая Васильевича Гоголя — одно из самых вершинных явлений русской литературы. Гоголь, начиная свой творческий путь, сознавал высокий долг перед отечеством, перед народом. Выбор Крамского не случайно пал на него. Панночка, утопленницы, ведьма — это ведь тоже миф, такой же миф, как тот, скандинавский, предложенный выпускникам Академии и против которого Крамской и еще тринадцать академистов подняли бунт. Но миф, рассказанный Гоголем, — и как рассказанный! — был свой, понятный, он был близок душе, близок всему существу Крамского, возросшему среди российской природы. «О, как я люблю мою Россию, ее песни, ее характер народности.» — писал он в своем дневнике, когда ему было пятнадцать лет.
Но обстоятельства сложились так, что Иван Николаевич долго не мог приступить к картине. Надо было зарабатывать деньги, и он занимался портретами. Писал портреты и карандашом, и красками.
Они выматывали душу, иссушали творческие силы, однако деться было некуда. Когда наконец смог приступить к «Русалкам», отдался картине со всем жаром своей натуры.
Пруд, угрюмо обставленный темным кленовым лесом и оплакиваемый вербами. Возле леса, на горе, дремлет с закрытыми ставнями старый дом сотника; мох и дикая трава покрыли его крышу; лес бросает на него дикую мрачность. При свете луны бродят, сидят там и сям, тени утопленниц. Неопознанная панночкой ведьма выбирается из воды. Глушь, запустение, неиссякаемое горе — все слилось в поэтическую, мерцающую серебряными отблесками картину.
Картина «Русалки» была окончена в 1871 году. К тому времени артель распалась. Но по примеру артели появилось Товарищество передвижных художественных выставок, куда вошли самые даровитые художники России. На Первой передвижной выставке Крамской показал свою картину.
Кроме «Русалок», на выставке были «Грачи прилетели» Саврасова, «Петр I и царевич Алексей» Ге, картины Перова и многие другие.
Лучшие полотна сразу же приобрел Третьяков.
Выставки передвижников стали проходить регулярно. Сначала открывались в Петербурге, затем переезжали в Москву, оттуда в Киев, Одессу. Всюду художники имели благодарные зрительские отклики за то, что искусство, наконец, перестало быть только «приятным»: оно заставляет работать мысль и помогает возвратиться на родную почву.
«Достоин ты национального монумента, русский гражданин-художник! —восхищался Крамским Илья Ефимович Репин. — Боец, учитель, ты вывел родное искусство на путь реализма. Потребовал законных национальных прав художника. Опрокинул навсегда отжившие классические авторитеты и заставил уважать и признать национальное русское творчество».
ХРИСТОС В ПУСТЫНЕ
Картину «Христос в пустыне» Иван Николаевич закончил в 1872 году. Он мучительно долго искал то единственное выражение лица, которое должно осветить мыслью это полотно, создать цельный характер человека. «Именно человека, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее», — был убежден Крамской. В образе Христа он хотел объединить черты каждого из живущих на земле. Христос — един, и в то же время Он — это все.
Юный Репин, наблюдая за работой Крамского, был поначалу ошеломлен. Странным казался даже тон, каким художник говорил о Христе: он говорил о нем, как о близком человеке. Илья Ефимович прекрасно знал библейские строки, где описывалось, что Иисус после крещения был возведен Духом в пустыню для искушения от дьявола, постился там сорок дней и сорок ночей, и когда почувствовал страшный голод, тут-то к нему и явился искуситель.
—Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сделались хлебом,—приставал он.
— Не хлебом единым жив человек, — отвечал Христос.
Тогда дьявол поднял Иисуса на крышу храма.
— Если ты Сын Божий, кинься вниз, твой отец тотчас пошлет к тебе на помощь ангелов, и ты даже не коснешься земли.
Иисус не поддался.
В третий раз приступил к нему дьявол. Вознес его на высокую гору, показал оттуда все царства мира, величие славы и предложил:
— Всё это дам тебе, если ты на коленях поклонишься мне.
— Отойди! — велел Христос. И побежденный дьявол оставил его.
— Искушение сидело в нем самом, — объяснял своего Христа Крамской,
— «Все, что ты видишь там, вдали, все эти великолепные города, — говорил Христу голос человеческих страстей, — ты можешь завоевать, покорить, все будет твоим и станет трепетать при твоем имени. У тебя есть все данные быть здесь всемогущим владыкой!»
И Репину, наконец, стала ясна эта глубокая драма на земле. Слава, власть, деньги. Как часто ради них люди шли на подлость и преступления, продавались и становились на колени перед кем угодно, хоть перед дьяволом.
Илья Ефимович уже сам пробовал компоновать «Искушение», поставив Христа на вершине скалы перед необозримой далью с морями и городами. Христос отвернулся и зажмурил глаза. Одной рукой он судорожно сжимает свой огромный лоб, другой отстраняет от себя, навязываемые дьяволом искусы.
У Крамского — Христос сидит печальный на камне, сцепив руки, измученный длинной и трудной дорогой, усталый, но не сломленный: Он готов в любую секунду встать и продолжить свой путь к человеку, борьбу во имя человека.
— Надо уяснить одно, — делился Иван Николаевич с друзьями, — я пишу своего Христа, своего Человека, лицо по всем признакам историческое, связанное не только с днем вчерашним, но и с днем завтрашним.
Слух о новой, необычной картине Крамского будоражил Петербург. Одни с нетерпением ждали, когда она будет выставлена, другие заранее злопыхали, а при встречах с кем-нибудь из друзей художника старались выразить им свое неудовольствие. Особенно донимали Шишкина, близкого друга Крамского.
— Видели картину «Явление Христа» то бишь «Христос в Пустыне»?
— Во-первых, картина еще не завершена, во-вторых, библейский Христос тут и вовсе ни при чем. Библейский Христос — это царь вселенной, а у Крамского — просто любящий человек. А вы-то сами, простите, видели эту картину?
|
|
И все же, когда она была выставлена, ее приняли далеко не все. Один художник прямо заявил:
— Что-то я понять не могу, отчего Христос, судя по пейзажу, оказался в Крыму?
Но Ивана Николаевича сбить с толку было уже невозможно, он уже знал, что вышел из трудной борьбы победителем. На насмешку оппонента он отвечал не меньшей насмешкой:
— Да ведь все верно, если не учитывать главного: пейзаж в данном случае меня и вовсе не интересовал.
А когда на выставку явился Третьяков и начал торговать картину, Крамской, не задумываясь, заломил такую цену, что в первый момент сам этой цены испугался, — 6 000 рублей! Но. прямо с выставки картина отправилась в галерею Павла Михайловича, где заняла почетное место. Кое- кто из недоброжелателей пытался повлиять на Третьякова: дескать, все бы ничего, да разве стоит эта «фигура» таких денег? Третьяков, как всегда, сухой, подтянутый, отвечал холодно:
— Цену, в конечном счете, назначает художник. Он лучше, чем кто-либо, знает стоимость своего труда.
Павел Михайлович не упомянул о главном: если бы картина не была редким по величию шедевром, он бы и полушки не заплатил, — он как никто умел разбираться в живописи.
А Иван Иванович Шишкин радовался за Крамского: ведь евангельский рассказ, какова бы ни была его историческая достоверность, есть памятник пережитого когда-то человечеством психологического процесса. И Крамской замечал то же:
— Пусть бы Христос делал чудеса, воскрешал мертвых, летал по воздуху, его бы оставили в покое; никто не стал бы ни нападать на него, ни защищать; но совсем другой разговор, когда находится такой чудак, который будит заснувшую совесть!
В Третьяковской галерее возле «Христа в пустыне» зрители стоят подолгу. В образе Христа отразились все страдания, боли и размышления человечества. Это — образ по-настоящему гениальный духовным охватом того, кто изображен на полотне, и того, кто стоит перед картиной, ибо перед ней никогда не остановишься просто так, праздно или оценивая искусство художника, — здесь нужно большее: ты весь.
НЕИЗВЕСТНАЯ
«Неизвестную», как в свое время «Христа в пустыне», Иван Николаевич писал долго. И началось вот с чего.
Однажды утром Илья Ефимович Репин пришел к Крамскому; только что Иван Николаевич заговорил с ним по поводу его новой работы, как раздался сильный звонок: из подъехавших троек-саней в дом ввалилась ватага артельщиков-художников с холодом мороза на шубах; они ввели в зал красавицу.
Репин просто остолбенел от дивного лица, роста и пропорций тела черноглазой брюнетки!
В общей суматохе быстро загремели стулья, задвигались мольберты, и живо общий зал превратился в этюдный класс. Красавицу усадили на возвышение в кресло незатейливой архитектуры. Кругом мольберты, художники с палитрами. Репин сконфузился, хотел было уйти, но что-то удержало его. Оправившись, он стал смотреть из-за спин художников.
Журавлев увеличил красавице глаза, сузил нос, смуглое лицо подбелил — вышло не то и хуже, несмотря на явное желание приукрасить. У художника М. выходило этюдно, без жизни и цветисто. У Шустова красиво и очень похоже, но эскизно, не нарисовано. Наконец Репин добрался и до Крамского. Да, это она! Крамской не побоялся верной пропорции глаз с лицом: у нее небольшие глаза, татарские, но сколько блеска! И конец носа с ноздрями шире междуглазья, -какая прелесть! Вся эта теплота, очарование вышли только у него.
Но оригинал неисчерпаем... Засмеялась, что-то сказала Шустову... Какие ослепительные зубы! Как красиво растягиваются крупные пурпуровые губы!..
Летом 1873 года Крамской находился в Ясной поляне, писал по просьбе Третьякова портрет Льва Николаевича Толстого. Толстые были очарованы талантом и интеллектом художника. Софья Андреевна говорила: «Вот умен-то и всё понимает!» А Лев Николаевич впоследствии вывел Крамского в «Анне Карениной» художником Михайловым.
О романе «Анна Каренина», который только еще вызревал в мыслях Толстого, писатель говорил много: он был полон его образами. Крамской узнал, что пять лет тому назад в Туле Лев Николаевич познакомился с дочерью Пушкина, Марией Александровной, чья породистость и полурусская красота настолько его восхитили, что он предал Анне Карениной ее внешность. И возраст Анны, примерно двадцати семи лет, был возрастом Марии Александровны.
|
Она вошла в залу в черном кружевном платье. Легкая походка несла ее довольно полную, но прямую и изящную фигуру. Мы сели с ней за чайный стол и долго говорили. |
Что-то схожее было в описании Толстым Марии Александровны с той незнакомой женщиной, которая однажды позировала для артели художников.
В 1887 году Крамской представил Петербургу свою «Неизвестную», в которой при внимательном рассмотрении можно заметить пушкинские черты. Художник усадил Неизвестную в пролетку, тем самым как бы подняв ее над другими. Взгляд Неизвестной полон достоинства. Право на такой взгляд дает не пол, не возраст, а душевная высота.
Роман «Анна Каренина» уже вышел в свет, и многим посетителям выставки казалось, то «Неизвестная» — портрет Карениной. Вспоминали момент из романа, когда Анна, презираемая высшим светом за свою честную, чистую любовь к Вронскому, явилась в театр, бросив вызов мелким душам, которым Господь не дал любви, ибо она для них непосильна.
Нашлись, конечно, и хулители, называли «Неизвестную» исчадием больших городов.
Участь картины оказалась легендарной. В копиях и репродукциях «Неизвестная» разошлась по всей России. Что-то было в ней такое, что притягивало к себе и не желало отпускать. Возможно, душа красавицы, которую художник не скрыл от зрителя. Больше всего русский человек ценит душу. Можно показывать ему какие угодно роскошные полотна, но если в них не живет душа, он останется безучастен.
ПОРТРЕТ П. М. ТРЕТЬЯКОВА
Павел Михайлович Третьяков, владелец величайшей коллекции русской живописи, был очень своеобразным человеком. Худой и высокий, с окладистой бородой и тихим голосом, он больше походил на угодника, чем на замоскворецкого купца. Он и внутренне не походил на своих собратьев: никаких попоек, ресторанов с цыганами, тройками и швырянием денег, ничего из того богатого набора хамских выходок, на которые были так щедры его современники богачи.
Павел с малых лет помогал отцу торговать в лавке, бегал по поручениям, выносил мусор и учился вести записи в торговых книгах; а после смерти отца он вел вместе с братом все торговые дела. От отца он научился уважать крепость раз данного слова, и сам поступал так же: «Слово мое — крепче документа», — говорил он.
Получив наследство, Павел Михайлович затеял грандиозное предприятие
— создание галереи русской живописи, затратив на это миллионное состояние. Чтобы помогать нуждающимся художникам, он избегал в быту роскоши, ему было гораздо важнее, что художники могут спокойно работать над своими картинами. Кому из русских живописцев не приходила мысль о том, что, не появись в свое время Третьяков, не отдайся он всецело идее, не начни собирать воедино русское искусство, не было бы тех больших и малых картин, которые теперь украшают знаменитую Государственную Третьяковскую галерею. В большинстве своем будущие создатели знаменитых полотен приезжали в Москву и Петербург с медными грошами в кармане и зачастую лишь при финансовой помощи Третьякова имели возможность творить.
Преданность Третьякова России, русскому, была столь велика, что он, не любивший лишних трат, все же предпочитал переплатить, но купить у русского торговца. «Говорят, что в Париже лучше и дешевле, а я говорю, плати за худшую вещь дороже, но дома!»
Третьяков решил собирать картины русской живописи, когда еще ни Репина, ни Сурикова, ни Васнецова не было, когда «основной тон» в искусстве задавала бездушная Академия. Никто не верил в торжество русской национальной школы живописи. Но Третьяков — верил! Через все трудности и испытания пронес он эту веру.
Картины развешивал вначале в своем кабинете. Со временем там стало тесно, и они развешивались в столовой и гостиных. Павел Михайлович старался, чтобы художники были представлены лучшими своими вещами. Если на выставках под картинами видели белую карточку с надписью «Приобретено П. М. Третьяковым», — это значило, что русская живопись может гордиться новыми выдающимися произведениями. Третьяков обладал абсолютным художественным вкусом.
В 1860 году двадцативосьмилетний коллекционер написал завещание: «В случае смерти моей, для всей этой галереи пока нанять приличное помещение в хорошем и удобном месте города, отделать комнаты чисто, удобно для картин, но без малейшей роскоши, потому что помещение это должно быть только временное. Из вышеозначенного капитала 266 186 рублей, выключая наследственный капитал 108 000 рублей, и на устройство галереи 150 000 рублей, останется 8 186 рублей. Этот капитал и что вновь приобретется торговлей на мой капитал прошу употребить на выдачу в замужество бедных невест, но за добропорядочных людей. Более я ничего не желаю, прошу всех, перед кем согрешил, кого обидел, простить меня, и не осудить моего распоряжения, потому будет довольно осуждающих и кроме вас, то хоть вы-то, дорогие мне, останьтесь на моей стороне».
В 1872 году, по проекту художника Виктора Михайловича Васнецова, Третьяков начал постройку художественной галереи. Здание должно было примкнуть к дому. К строительству приступили тотчас. Через год галерея уже достраивалось, штукатурились стены. Верхний зал, очень высокий, освещался окнами, проделанными под потолком. Но это освещение не давало достаточного света, и окна были заменены застекленным потолком. Сколько хлопот было с этим потолком, когда приходилось проводить починку стекол, мыть или счищать снег!
Вход в галерею для домочадцев был идеально удобен: стоило только отворить дверь из жилых комнат. Для посещения публики вход был непосредственно в здании галереи.
«Что не делают большие общественные учреждения, — то поднял на плечи частный человек и выполняет со страстью, с жаром, с увлечением и — что всего удивительнее — с толком. В его коллекции нет слабых картин», — с уважением говорили о Третьякове люди искусства.
Брат Третьякова, Сергей Михайлович, тоже собирал картины, хоть и не с таким размахом, как Павел Михайлович. Собирал иностранные. После смерти брата, Павел Михайлович, согласно завещанию, взял его коллекцию. «Она так и останется, к ней не прибавится ни одной иностранной картины, мое же русское собрание, надеюсь, если буду жив, будет пополняться».
В течение четырех десятилетий Третьяков служил любимому делу. «Я желаю, чтобы наше собрание всегда было в Москве и ей принадлежало, а что пользоваться собранием может весь русский народ, это само собою известно».
У Павла Михайловича был единственный его портрет кисти Крамского, от остальных предложений он отказывался. Да и Крамской вряд ли бы написал этот портрет, если бы не помог случай. В 1876 году Третьяков вследствие болезни некоторое время не мог двигаться. Кому первому -- его жене, Вере Николаевне, или Крамскому -- пришла мысль воспользоваться вынужденной неподвижностью Павла Михайловича, не известно. Третьяков увиливал, но, наконец все таки согласился. Портрет был написан очень небольшой и очень быстро. Только через тринадцать лет И. Е. Репин напишет еще один портрет Третьякова. Репин писал портрет для себя, а Павла Михайловича удалось уговорить потому, что он очень любил Илью Ефимовича.
Третьяков был крайне скромен. Он не хотел вокруг себя шумихи, не хотел никаких похвал; спокойно, тихо он вершил свою задачу, ни разу, ни на один шаг не сбившись на сторону. Он шел, словно руководимый путеводной звездой.
«Как тихо, бесшумно, без всякой рекламы, без назойливых репортерских сообщений созидалась Третьяковская галерея, пока не выросла до степени художественного события, государственной заслуги. Материальная поддержка художников шла рядом с поддержкой нравственной. И как все это делалось скромно, почти стыдливо.» — писал о Третьякове современник. А между тем, Третьяков владел богатейшей коллекцией русской живописи!
В 1892 году Павел Михайлович передал Москве все собранные им картины, а также те, которые были оставлены ему умершим братом. Картин в галерее в то время было две тысячи. «Желая содействовать процветанию искусства в России, приношу в дар мою картинную галерею. Г алерея должна быть открыта на вечное время для бесплатного обозрения всеми желающими.»
Кроме того, он передал городу дом в Лаврушинском переулке, там же, где находилась галерея. «Дом передаю для устройства бесплатных квартир для вдов, малолетних детей и незамужних дочерей умерших художников. 150 000 рублей --- в Думу на это содержание».
«Моя идея была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу, народу в каких-либо полезных учреждениях», — говорил Павел Михайлович.
|
|
Галерея была открыта Думой так торжественно, как не открывалось еще ни одно из городских учреждений. Переданная из рук Третьякова в руки своей Родине, галерея прославила его имя на весь мир.
Государственная Третьяковская галерея — национальная галерея русской живописи, художественный музей мирового значения. В мире существует ряд музеев и национальных галерей, обладающих великими ценностями. Но Третьяковская галерея единственная в своем роде. Ибо само становление галереи было в то же время процессом становления русского национального искусства, более того — русского национального самосознания.
Федор Александрович Васильев (1850-1873)

|
ЗАРЯ В ПЕТЕРБУРГЕ
Федор Александрович Васильев родился в Гатчине. Вскоре родители переехали в Петербург на Васильевский остров в одноэтажный низенький домик. В семье царила беспросветная нужда. Отец Федора, почтовый служащий, считался среди своих родственников «человеком несостоятельным». С женой он не был обвенчан и двое старших детей (Евгения и Федор) вообще не значились в его документах. Евгению он все же «удочерил», а Федор так и остался на положении незаконнорожденного. Родители венчались через три года после рождения Федора. Семья пополнилась еще двумя детьми — Александром и Романом.
В 1865 году после долгой болезни отец Федора скончался, велев похоронить себя в Гатчине. Сорок верст тащились сани с гробом по снежному месиву. Встречные останавливались, снимали шапки. Погода стояла мокрая, ранневесенняя, и ветер, ветер — промозглый, пробирающий до костей, — самый нездоровый ветер. Пятнадцатилетний Федор сидел в санях, укутавшись, втянув голову в поднятый воротник, безучастно смотрел на глубокую колею убегавшую назад. Он не любил отца. Жалкая, не по годам согбенная фигура не вызывала сыновнего чувства. И не проходила обида, что он, Федор — «незаконный». За всю дорогу он не проронил ни слова, внутри все закаменело.
И только когда гроб опустили в холодную, жутко зияющую яму, и первые комья глухо ударились о тесины, он вздрогнул и с отчаянием произнес:
— Да что же это?!.. Почему?!.
Федор словно враз переменился, повзрослел. И всё простил отцу.
Обратный путь был еще более долгим. Шальной ветер пронизывал насквозь. Лик земли со всем ее величием и потрясающей убогостью, щемил сердце. Как горько было маленьким людям, затерянным среди печальных просторов! Какими беззащитными они чувствовали себя! Что принесет завтрашний день? Дорога, дорога перед глазами. Испокон веку идет труженик по этой сиротской дороге, сам сирота.
Федор продрог, озноб колотил все тело. Только бы не заболеть! Слабые легкие было наследственным в их семье. Слабые легкие требовали хорошего питания, а где было взять, если отец, работая на почтамте, получал 25 рублей в месяц? Помогая отцу, Федор пел в местном церковном хоре, где немного платили, в гимназии учился за счет благодетеля, в каникулы подрабатывал — носил почтальону тяжелую сумку за рубль в месяц. В тринадцать лет нанялся помощником писца в Адмиралтействе, где получал три рубля. Ходил в шинели, перешитой с чужого плеча, носил истертые до прозрачности брюки, и сверстники обзывали его то «перешитым гимназистом», то «ситцевыми штанами».
После смерти кормильца, семья осталась без средств. Как перебивались, одному Богу известно. «Мы живем на 8 рублей в месяц», — писала сестра Федора своему жениху Ивану Ивановичу Шишкину. Шишкин помогал, чем мог: Федор должен закончить учебу. Десятилетним мальчиком Федор сам пришел в Рисовальную школу при Обществе поощрения художников. С истинно моцартовской легкостью решал он сложнейшие технические задачи, но главное, имел свое мнение и никому не подражал.
Иван Николаевич Крамской, педагог и наставник Васильева, был просто влюблен в него. Ему даже казалось, что Васильев живет во второй раз, что им уже все постигнуто, а сейчас он лишь вспоминает знакомое. В 1867 году Васильев окончил учебу, но обстоятельства не позволили ему быть хозяином своего труда и времени. Готовых денег не имел, напротив, имел на руках семейство, которое надо было кормить. Федор взялся за заказы. Когда-то он верил, что существует время плохое и хорошее, однако оно упорно не желало меняться, и он, выполняя один заказ за другим, отложил надежду учиться в Академии.
Жизненное положение Васильева было очень сложным. «Незаконнорожденный», он не имел права на получение паспорта. Принадлежа к мещанскому сословию, обязан был отбывать рекрутчину. Это стесняло не только его творческую деятельность, но и больно ранило. Но талант его был огромен! Высокий, ошеломляющий талант! Он пробивал себе дорогу через все тернии. «Вот энергия, вот сила!..» — восхищался Крамской.
|
|
Во Франции в ту пору зарождалось новое направление в живописи — импрессионизм. Запечатлевать не столько сам предмет, сколько окутывающий его свет и атмосферу, сделать объект «дрожащим», каким именно и видит его человеческий глаз. И вот это направление. угадал Васильев. Его юношеская картина «Заря в Петербурге», выполненная как случайно схваченный кусок действительности, была еще не импрессионистской, но уже предвещала импрессионизм. Она уводила русское искусство в совершенно новую область — свободную от условностей шестидесятых-семидесятых годов. Васильев интуитивно шагнул на поколение вперед.
ВИД НА ВОЛГЕ. БАРКИ
Летом 1870 года Васильев поехал с Репиным на Волгу, выхлопотав для этого помощь в Общества поощрения художников. Илья Ефимович не мог надивиться на него: поет, ходит на охоту. — дорвался до вольной жизни. И вдруг — одна картина, другая, третья! Да такие, словно Васильев вынашивал в себе каждую и словно десятки эскизов были готовы к ним. А сколько рисунков сделал за время путешествия, сколько набросков! Картину «Вид на Волге. Барки», казалось, не написал, а спел. Безбрежна ширь могучей реки, зеркальны воды. На золотистом песке готовится к отдыху ватага бурлаков — та самая, с которой для своего полотна «Бурлаки» списывал типы Илья Ефимович Репин. Полюбившийся Репину бурлак Канин (с повязкой на лбу) выведен Васильевым на переднем плане. Вечернее небо еще в лучах солнца, но собираются облака, и может случиться гроза.
Федор не сделал свою картину фактором гражданского протеста, как Репин, но Волгу без этой бурлацкой ватаги он уже представить не мог. В картине нет резких контрастов, карандашные линии тонкие как паутина, — и однако же зрителю все понятно.
Двадцатилетний художник достиг такой гармонии, какая не всегда давалась даже опытным живописцам. На полотне всё едино: композиция, цветовая палитра, рисунок. Картина полна жизненных сил и поэтического очарования. Васильев был художник великих озарений, и его «ясновидение» относилось не только к собственной живописи. В Ялте однажды он совершенно отчетливо увидел картину Крамского «Христос в Пустыне», хотя Иван Николаевич жил в Петербурге и еще только начал писать ее. Возможно, Крамской был не очень далек от истины, предполагая, что Васильев проживает вторую жизнь.
|
|
Федор Васильев верил, что искусство обладает силой воспитательного воздействия на общество. Верил, что даже преступники усовестятся своих деяний, когда увидят картину, полную торжества и чистоты природы. «Без любви к природе невозможно полное счастье. Долг пейзажиста — помочь людям обрести его», — высказывал он свою мысль.
Делая огромные шаги в духовном и творческом развитии, он подспудно оказывал влияние и на других живописцев. Свет васильевских небес был дружно подхвачен, лучи его озарили кисти многих его собратьев; Федор Александрович стал одним из основоположников «пейзажа настроения», стал предтечей Куинджи и Левитана.
ОТТЕПЕЛЬ
Весной 1871 года Васильев работал над «Оттепелью», хотя был серьезно болен: обнаружились грозные признаки туберкулеза. Формат картины необычно вытянутый вширь, уже сам по себе рождал ощущение протяженности дороги, по которой бредут крестьянин и маленькая девочка. Близкая весна не несет радости. Серо, сыро и грустно вокруг. Так же грустно, как было, когда хоронили отца Федора. Ох, сколько на этих дорогах перестрадало сердец! Сколько дум людских знают эти дороги! И так щемило сердце от этого родного, убогого, милого. Васильев довел это ощущение до эпической высоты.
1871 год стал для Федора Александровича особенным. Открылась в Петербурге Первая передвижная выставка, и на ней — самые яркие пейзажные полотна: «Грачи прилетели» Саврасова, «Оттепель» Васильева и «Сосновый лес» Шишкина. «Оттепель» — такая горячая, сильная, дерзкая, с большим поэтическим содержанием и в то же время юная и молодая, пробудившаяся к жизни, требующая права гражданства между другими, и хотя решительно новая, но — имеющая корни где-то далеко.» — высказал свое впечатление Крамской. Он еще ничего не знал о предстоящем русскому пейзажному жанру невиданном расцвете, однако предчувствовал его, угадывал его закономерность и неизбежность.
В конце зимы «Оттепель» была показана на конкурсе Общества поощрения живописи и получила первую премию. Картину прямо с выставки приобрел
|
|
Третьяков. Тогда же Васильев не более чем за месяц по заказу великого князя Александра Александровича (в будущем царя Александра III) выполнил повторение картины, находящееся ныне в Русском музее. Повторение «Оттепели» не было простой авторской копией. Это была как бы дальнейшая разработка мотива. Васильев создал два равноценных по художественному достоинству полотна. Комитет, производивший набор картин на Всемирную выставку в Лондоне, остановился на принадлежащем царской фамилии повторении. Оно и отправилось в Англию.
Всемирная выставка имела на этот раз особое значение для русской живописи и скульптуры. Она буквально открыла Европе высокие достоинства русского искусства. Произошло это благодаря правильному и объективному отбору экспонатов. Россия показала, что имеет свое, неповторимое лицо, создает произведения, стоящие вровень с лучшими мировыми достижениями. В лондонской прессе появились статьи, в которых авторы указывали на те замечательные черты русской живописи, коих лишены были произведения многих европейских мастеров.
Создав «Оттепель», Федор Васильев вошел в число лучших художников России.
Он еще не знал тогда, какие невзгоды предстоят ему в недалеком будущем, как трагически мало осталось ему жить, и в каком подвижническом труде он проведет последний отрезок своей жизни.
МОКРЫЙ ЛУГ
Совет Академии, в которой наконец начал обучаться Васильев, своим постановлением признал его классным художником I-й степени. Это давало право получить паспорт и быть освобожденным от воинской повинности. Но по уставу Академии надо было сдать экзамен «из наук». Этого Васильев сделать не мог: тяжело больной он, по рекомендации врачей, выехал в Ялту. Крамской хлопотал за него даже перед президентом Академии, но великий князь Владимир Александрович не пожелал сделать исключения.
И вот—снова унизительное положение человека «без вида на жительство», погибшая мечта о командировке в Италию для лечения и усовершенствования в искусстве.
Жизнь в Ялте была дорогой. Работа и лечение требовали дополнительных расходов. Ссуды от Общества поощрения художников — 100 рублей в месяц — не хватало. К тому же на руках Васильева были мать и маленький брат.
Чтобы свести концы с концами он брал частные заказы, от которых его тошнило, они отнимали драгоценное время и подтачивали силы. Сердце тянулось к родному северу, тосковало, тоска требовала выхода. С особенной ностальгией Васильев вспоминал о болотах Петербурга. «О, болото, болото! Как болезненно сжимается сердце от тяжкого предчувствия! Неужели не удастся мне опять дышать этим привольем, этой живительной силой просыпающегося над дымящейся водой утра? Ведь у меня возьмут всё, всё, если возьмут это».
Шесть картин, посвященных северной русской природе написал он в Крыму. Во всех изображена болотистая местность. Писал даже не по этюдам, по памяти, писал нервно, торопливо, постоянно жалуясь, что яркое южное солнце мешает ему работать. И рвался домой, в Петербург! Одну из этих картин — «Мокрый луг» — Васильев прислал на конкурс Общества поощрения художников. Картина-воспоминание. Небольшая по размеру, она вобрала в себя, казалось, целый мир, она дышала, жила в каком-то мгновенном озарении, и все в ней было свежо, чисто и глубоко — прозрачный воздух и мокрый сверкающий луг.
«Эта картина рассказала мне больше Вашего дневника. Я не мог оторвать от нее глаз, — писал Васильеву Крамской. — Дождливое, местами темное полотно все же полно света, жизни, движения. Ветерок, пробежавший по воде; деревца, еще поливаемые последними каплями дождя; русло, начинающее уже зарастать. наконец, небо! — со всею массою воды. «Живое, мокрое, движущееся небо», как выразился Ге. Невозможная, варварская задача для художника!»
|
|
В те дни только и разговоров было в Петербурге, что о картине Шишкина. «Сосновый бор» да о «Мокром луге» Васильева. Конкурсная комиссия долго не знала, кому отдать предпочтение. И хотя первую премию присудили Шишкину, никто бы не удивился и не усомнился в правильности решения, если бы присудили ее Васильеву. Крамской предлагал даже на сей раз учредить две первых премии, но совет решения не отменил.
В КРЫМСКИХ ГОРАХ
Крым, который Васильев поначалу невзлюбил, постепенно начинал притягивать его к себе. Страна пустынных горных плато, подоблачных просторов, трудных каменистых дорог — Васильев открывал свой Крым, никем из художников до него таким не увиденный. «Глубок, глубок смысл природы, — делился он в письмах к Крамскому. — Даже если написать картину, состоящую из одного только голубого воздуха и гор, без единого облачка и передать это так, как оно в природе».
Картину Васильева «В крымских горах» современники приняли как откровение. Это — последняя картина Федора Александровича, которую при его жизни увидел Петербург. Сразу с выставки ее купил Третьяков.
|
-128- |
«Настоящая картина ни на что уже не похожа, не имеет ни малейшего, даже отдаленного сходства ни с одним художником, ни с какой школой. Это что-то до такой степени самобытное, что я могу сказать только одно: это еще не хорошо, т. е. не вполне хорошо, даже местами плохо, но это — гениально, — написал Васильеву Крамской. — Понимаете ли Вы теперь, как важно для Вас самих, какая страшная ответственность Вам предстоит только оттого, что Вы поднялись почти до невозможной, гадательной высоты. Кроме того, Ваша теперешняя картина меня раздавила окончательно. Я увидел, как надо писать.
Как писать не надо — я давно знал. Замечаете ли вы, что я ни слова не говорю о Ваших красках. Это потому, что их нет в картине совсем, понимаете ли, совсем. Передо мной величественный вид природы, я вижу леса, деревья, вижу облака, вижу камни, да еще не просто, а по ним ходит поэзия света, какая- то торжественная тишина, что-то глубоко задумчивое, таинственное, — ну, кто же из смертных может видеть какую-либо краску, какой-либо тон? При этих условиях?..»
В апреле 1873 года Васильеву стало совсем худо. Работать он больше не мог. Русская школа теряла в нем гения. «У меня память до такой степени плоха, что я забываю имя моего покойного отца», — жаловался он в письме к Третьякову. Павел Михайлович много сил приложил, чтобы облегчить участь художника. Помогали Васильеву и Крамской, и Шишкин. Но болезнь уже победила его.
— Два последние письма, которые я от него имел, такого беспорядочного тона и содержания. Такая горячка, лихорадочная разбросанность, такое страшное порывание куда-то уйти, что-то сделать и от чего-то освободиться, что теперь с ним нужно только осторожно обходить всякие вопросы и дожидаться, когда он закрое глаза, — с глубокой печалью сообщал Крамской Шишкину.
К осени Васильев уже едва мог сойти с трех ступенек. Скончался он 29 сентября. От крымских лет у Васильева остались не только картины, но более полутора сотен рисунков и несколько замечательных сепий. Достигнуто это было ценой настоящего жизненного подвига. Когда мать привезла наследие сына в Петербург, оно поразило всех. «Милый мальчик, мы и не знали, что ты носил в себе! — был потрясен Крамской. — Сколько же сделано! Это же страх один!»
Было решено устроить посмертную выставку Васильева, которая состоялась в начале 1874 года и стала небывалым явлением в художественной жизни Петербурга. Всё, вплоть до последнего наброска Васильева, было распродано еще до открытия выставки. Зрители увидели в работах художника не просто феноменальное явление искусства, а что-то глубоко всех затронувшее и самостоятельно выраженное. Павел Михайлович Третьяков купил сразу восемнадцать работ (а затем годами терпеливо ждал, чтобы откупить еще что- нибудь у наследников Васильева). Два альбома приобрела императрица Мария Александровна, и еще два — библиотека Академии художеств.
Всего 23 года жизни, всего 5 лет творчества отвела судьба Федору Александровичу Васильеву. Лишь исключительная талантливость позволила ему в такой короткий срок создать выдающиеся произведения. Но сколько открытий, сколько несозданных шедевров потеряло со смертью Васильева русское искусство! Васильев умер, далеко не совершив того, на что способны были наполнявшие его силы.
Илья Ефимович Репин (1844 — 1930)
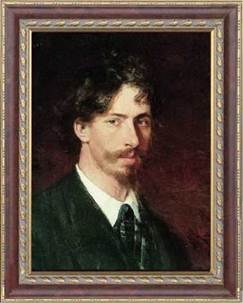
БУРЛАКИ НА ВОЛГЕ
Было это в 1868 году. Ученик Академии художеств Илья Репин уговорил художника Савицкого отправиться с ним на этюды. Они плыли на пароходе вверх по Неве в компании веселых офицеров, студентов и нарядных барышень. Внезапно Репин заметил вдали какое-то коричневое пятно.
— Что это ползет на наше солнце? — пошутил он.
— А это бурлаки бечевой барку тянут, — ответил Савицкий.
Репин напрягся. О бурлаках он ничего не знал. Приблизились. О, Боже! Какие грязные, оборванные! У одного почти оборвалась штанина, по земле волочится и голое тело светит. Груди докрасна обтерлись о лямку, оголились. Лица угрюмы, изредка глянут на цветастую толпу пассажиров, исподлобья глянут, тяжелыми глазами.
— Да что же это! — закричал Репин. — Люди вместо скота впряжены! Разве нельзя перевозить барки буксирными пароходами?
— Хм. — усмехнулся Савицкий. — Буксиры дороги. А главное, эти самые бурлаки и нагрузят, и разгрузят барку.
Репин остолбенел!
К своим двадцати четырем годам он уже навидался разных житейских тягот, видел людей-рабов, но чтобы до такой степени рабство. Навсегда он запомнит этот день!
Через два года вместе с художником Васильевым поехал на Волгу на этюды. Поразило необозримое Волжское пространство: альбом не вмещал непривычного кругозора. А какая была чистота воздуха! Какие люди! — красивые, дородные, никакого подхалимства, никаких замашек услужить господам. В местечке Ширяево Репин уходил по утрам к Волге: там он мог видеть бурлаков, картину о которых задумал написать. Поднимался высоко по каменистому берегу, поджидал барку. Здесь на одной из отмелей бурлаки складывали лямки и ложились в сладкой неге на палубу. Репину видно было сверху как на ладони. Однажды он спустился к барке. Команда ее состояла из одиннадцати бурлаков с подростком-мальчиком, уполномоченным от хозяина доставить известь из Царевщины в Симбирск. Поравнявшись с одним из бурлаков, Репин замер: «Глаза-то глаза! А лоб! Это не простак.» Голова бурлака была повязана тряпицей, волосы курчавились к шее, в выражении лица было что-то восточное, древнее.
— Можно с тебя портрет списать? — спросил Репин.
Бурлак обиделся:
— Чего с меня писать? Я в волостном правлении прописан, я не беспаспортный какой.
Ватага растянула бечеву вдоль берега. Быстро, приспособленными узлами, закладывали свою упряжь — потемнелую от пота кожаную петлю-хомут. Илья Ефимович пошел рядом с Каниным — заинтересовавшим его бурлаком — чувствуя, что до страсти влюблен в каждую его черточку, во всякий оттенок его кожи и посконной рубахи.
— Так что же, можно будет написать с тебя портрет? — возобновил свой вопрос. Типичнее этого бурлака, казалось, ничего не могло быть для избранного сюжета.
Один из бурлаков сказал Канину:
— Он с тебя «каликатуру» спишет, просит-то недаром.
— Ха-ха! Быть тебе в каликатуре! — артельщики принялись допекать Канина.
Он молчал и ни с кем не связывался, и казался Репину величайшей загадкой.
В конце-концов художник уломал его. Вслед за Каниным удалось уговорить и других бурлаков.
За работой Репин расспрашивал их, кто они и откуда. Были среди них бывшие солдаты, был дурачок, был поп-расстрига, были и такие, о которых поэт Никитин писал:
Запросилась душа на широкий простор,
Взял я паспорт, подушные отдал
И пошел в бурлаки...
— А ведь вы, бают, пригоняете, — вдруг сказал Репину один из бурлаков.
— Куда пригоняете? — не понял он.
— К антихристу, бают, пригоняете.
— Вот вздор! — загорячился Репин.
— Ладно, брат, мы всё знаем. Теперь ты с меня спишешь за двугривенный, а через год придут с цепью за моей душенькой и закуют, и погонят ее, рабу Божию, к антихристу. Ты бы хоть по двадцать рублей нам давал.
Возвратившись в Петербург, Илья Ефимович сделал набросок «Бурлаков на Волге». К самой же картине долго не мог приступить, обдумывал. В это время его мастерскую посетил вице-премьер Академии художеств великий князь Владимир Александрович. Осмотрев работы, он сразу указал Репину на «Бурлаков»:
— Вот это сейчас же начинайте обрабатывать для меня.
Илью Ефимовича поразило: как великий князь сразу остановился на «Бурлаках», которые «были еще так плохи и на таком ничтожном картончике»? Но, очевидно, Владимир Александрович смог увидеть мысленным взором тот, окончательный вариант картины, который так сильно встряхнул российскую общественность и принес художнику мировую славу. Чудна ширь и раздолье Волги. Где-то далеко впереди летит суденышко, размахивая, как крылом, белым парусом. Направо, в такой же дали, несется пароход, протянув в воздухе струйки дыма. А прямо, впереди, идут в ногу по мокрому песку, отпечатывая в нем ступни своих дырявых лаптей, одиннадцать бурлаков: с голой грудью, обожженными солнцем руками, натягивая лямку и таща барку.
Когда Репин представил картину на выставке, министр путей сообщения напал на него:
— Ну, скажите, ради Бога, какая нелегкая вас дернула писать эту нелепую картину? Вы, должно быть, поляк?.. Ну, как не стыдно — русский!.. Да ведь этот допотопный способ транспортов мною уже сведен к нулю, и скоро о нем не будет и помину! А вы, наверно, мечтаете найти глупца, который приобретет себе этих горилл?
Репин, конечно, не мог ему сказать о визите великого князя, не мог сказать, что картина «Бурлаки на Волге» задолго до выставки была куплена, висела в бильярдной комнате княжеского дворца. Великий князь Владимир Александрович потом не раз жаловался Репину:
|
|
— Стена вечно пустует: картину просят на разные европейские выставки.
«Бурлаки на Волге» — одна из самых замечательных картин русской школы, а как картина на национальный сюжет — она решительно первая из всех у нас, — писал критик Стасов. — Ни одна другая не может сравниться с нею по глубине содержания, по историческим взглядам и по силе правдивости».
Некоторые зрители считали, что «Бурлаков» Репин писал как иллюстрацию к стихотворению Некрасова:
Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется —
То бурлаки идут бечевой.
Но Илья Ефимович, когда впервые увидел бурлаков и когда писал о них большое гражданское полотно, не знал этого стихотворения. «Стыдно признаться, но я прочитал эти некрасовские строки года через два только после поездки на Волгу». И критиковал Некрасова: «Разве может бурлак петь на ходу под лямкой? Ведь лямка тянет назад, того и гляди, оступишься или на корни споткнешься. А главное, у них всегда лица злые, бледные: его глаз не выдержишь, отвернешься, — никакого расположения петь я у них не встречал, даже вечером перед кострами с котелком угрюмость и злоба заедали их».
Репин был живописец больших психологических достижений, он передавал характеры с необыкновенной яркостью. Его персонажи предстают живыми, неотразимо впечатляющими. От чистого сердца он хотел своей кистью помочь людям: обличить несправедливость и всех сделать счастливыми.
ИВАН ГРОЗНЫЙ И ЕГО СЫН ИВАН
Появление «Грозного» на выставке ошеломило столицу. Волнение охватило всех: сановников, студентов, мастеровых. «Это всероссийская сенсация! Петербург взволнован, можно сказать, потрясен, все разговоры около «Грозного», около Репина. Восторги, негодование, лекции, доклады. Тысячи посетителей, попавших и не могущих попасть на выставку. Конный наряд жандармов». На картине — страшное злодеяние обезумевшего царя. Царь и отец убил сына. Ужас охватывал зрителей: событие совершалось как будто въявь. Потоки крови, коей художник залил картину, вызывали патологическое ощущение истерики.
«Иван Грозный и его сын Иван» — событие 16 ноября 1581 года. В жарко натопленных кремлевских палатах ходили не менее чем в трех рубахах — так было заведено издревле. Беременная жена царевича Ивана задыхалась и, сняв с себя рубахи, кроме одной, находилась в своей светлице, когда вошел царь. При виде ее «зазорного» вида, он с гневом обрушился на бедную женщину, и она от страха лишилась чувств. Царевич вступился за жену. В диком порыве отец проломил ему голову скипетром.
Репин увидел в этом трагическом событии царя-ханжу, которому не смей перечить никто, даже собственный сын. Вот он, опомнился перед окровавленным сыном, не знает, что делать, держит трясущимися руками голову умирающего, и безумная жалость к родному ребенку, отчаяние, раскаяние сотрясают его!
«Работая усердно над картиной, и будучи страшно разбит нервами и расстроен, я заперся в своей мастерской, приказав никого не принимать, я сделался невидимкой для петербургского общества. А между тем слухи о моей картине проникли уже туда, и многие желали ее видеть, я же принял меры, чтобы раньше времени праздные зеваки не могли удовлетворить своего любопытства и мешать мне работать, — рассказывал Репин. — Я работал как завороженный. Мне минутами становилось страшно. Я отворачивался от этой картины, прятал ее. На моих друзей она производила то же впечатление. Но что-то гнало меня к этой картине, и я опять работал над нею».
Когда картина была выставлена, Лев Николаевич Толстой сказал:
— Грозный — самый плюгавый и жалкий убийца, какими они и должны быть, — и красивая смертная красота сына. Хорошо, очень хорошо! Художник сказал вполне ясно. Кроме того, так мастерски, что не видать мастерства.
Критик Стасова тоже увидел в сцене убийства неограниченное тиранство Грозного, увидел, что Репин противопоставил припадочному царю его сына — любящего, кроткого, умирающего без малейшей ненависти к отцу.
Однако же многие зрители картину не приняли. Считали, что Грозный не был плюгавым царем, он был — Грозным! Он присоединил к России Урал и Поволжье, Казанское и Астраханское ханства, и никогда не унижал побежденный народ. При Грозном Ермак присоединил к России Сибирь. Был создан первый Стоглавый Собор, основан Архангельский порт, появились первые на Руси — типография, регулярное стрелецкое войско и артиллерия. Грозный создал государство, с которым вынуждена была считаться вся Европа!
Репин понял свой промах. Пытался оправдаться: «Я выступаю здесь как живописец по мере сил своих. Полагаю, что меня надо не ругать, а благодарить». Но ему отвечали, что картина оскорбляет русское достоинство. Кроме того, некоторые историки заявляли, что Грозный никогда не убивал своего сына, что это злобная выдумка, которая затесалась в архивы и сделалась «фактом». Выступил против Репина и обер-прокурор Святейшего синода К. П. Победоносцев: «Эту картину нельзя назвать исторической, так как этот момент... чисто фантастический».
|
|
Волна протеста поднялась и против Стасова, и против Толстого. Кое-кто пытался примирить враждующие лагери: «Грозный» — картина многоплановая; здесь не только осуждение жестокости, но и раскрытие душевных переживаний царя-преступника: позднее раскаяние, страх, боль, беззвучный крик отчаяния.»
И все же картину увезли в Москву в галерею Третьякова. Павел Михайлович рассудил так: история историей, а живопись живописью — в «Грозном» полет чисто художественный.
По распоряжению царя московский полицмейстер взял с Третьякова подписку, что он не повесит ее в галерее. «Она будет спрятана в одной из жилых комнат моего дома, — написал Павел Михайлович Репину. — Потом сделаю специальную для нее пристройку к галерее».
Но особой комнаты не потребовалось, было получено разрешение на показ картины.
В Москве на «Грозного» тоже ополчились. В 1913 году молодой иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов бросился на картину и исполосовал ее сапожным ножом. Узнав об этом, поэт Максимилиан Волошин сказал: «Жаль, что ее совсем не изрезали». Удары были настолько сильны, что повредили и центральную перекладину подрамника.
Репин был совершенно раздавлен свалившейся на него страшной бедой!
— Будто по телу ножом! — Он был уверен, что картина истреблена безнадежно.
Попечитель Третьяковской галереи, известный живописец Игорь Грабарь, поставил перед собой задачу: восстановить полотно в прежнем виде. Это казалось немыслимым, так огромны были раны. Но талантливый специалист реставратор при участии Грабаря применил особые, строго научные методы, и картина возродилась к новой жизни.
ЗАПОРОЖЦЫ
«Тяжелый XV век. Полукочующий угол Европы, который князья южной первобытной России уже совершенно оставили. Этот угол был опустошен, выжжен дотла неукротимыми набегами монгольских хищников. Но, лишившись дома и кровли, человек стал отважен. На пожарищах, в виду грозных соседей и вечной опасности, он селился и привыкал глядеть врагу прямо в очи. Здесь бранным пламенем объялся мирный славянский дух и завелось козачество — широкая, разгульная замашка русской природы. Вместо прежних уделов, городков, наполненных псарями и ловчими, вместо враждующих мелких князей, возникли грозные селения, курени и околицы, связанные общей опасностью и ненавистью против нехристианских хищников.
Их вечная борьба и беспокойная жизнь спасли Европу от неукротимых набегов, грозивших ее опрокинуть. Поляки, очутившиеся наместо прежних русских князей, поняли значение козаков и выгоды таковой бранной сторожевой жизни. Они поощряли их и льстили сему расположению. Под отдаленною властью Польши, гетманы, избранные из среды самих же козаков, преобразовали околицы и курени в полки и правильные округа. Это не было строевое собранное войско, но в случае войны в восемь дней, не больше, всякий являлся на коне, во всем своем вооружении, получая один только червонец платы от польского короля, — и в две недели набиралось такое войско, какого бы не в силах были набрать никакие рекрутские наборы. Кончался поход — воин уходил в луга и пашни, на днепровские перевозы, ловил рыбу, торговал, варил пиво и был вольный козак». — Так писал в своей повести «Тарас Бульба» Николай Васильевич Гоголь.
Освоившись на русских землях, брошенных князьями под натиском Орды, польская шляхта принялась водворять там свои порядки. Уничтожала православные храмы, требуя, чтобы народ принял католичество. Те, кто сопротивлялся, были беспощадно биты или четвертованы. Казаки не раз выступали против панов. Горьки и страстны слова старого Бульбы, обращенные к своим товарищам:
«Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести была земля наша: и грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки!»
Когда Илья Ефимович Репин задумал написать «Запорожцев», он побывал на Украине, Кубани, на Хортице. Сделал живописный эскиз «Запорожцев». Эскиз этот дорабатывался и частично изменялся в процессе работы над картиной. Репин очень заботился о верности обстановки и костюмов. «Шаровары шириною в Черное море, с тысячью складок и со сборами. Казакин алого цвета. Чеканные турецкие пистолеты, задвинутые за пояс. Сабля брякала по ногам. Высокие бараньи шапки с золотым верхом».
Вольной казачьей республикой рисовалась Репину Сечь. Свою картину Илья Ефимович сопроводил подробным названием: «На высокопарную грозную грамоту султана Магомета IV кошевой Иван Дмитриевич Серко с товарищами отвечает насмешками».
|
|
За столом — атаманы запорожского войска. Только что вслух была зачитана грамота султана. Желая избавиться от своего опасного соседа, он предлагал запорожцам сдаться без сопротивления. Чтобы устрашить казаков, привел в начале письма все свои звания: «Я, султан, сын Магомета, брат солнца и луны, внук и наместник божий, владелец царств — Македонского, Вавилонского, Иерусалимского, Великого и Малого Египта, царь над царями, властелин над властелинами. »
Вдоволь нахохотавшись над надеждами султана, запорожцы, не раз громившие султанские орды под руководством кошевого атамана Ивана Серко, пишут едкий ответ: «Салтан, подножие греческое, повар вавилонский, каретник ассирийский, винокур Великого и Малого Египта, свинопас александрийский, седло армянское, пес татарский, шут и скаред, всего света привидение, жмот и друг сатаны, распятого Бога враг и гонитель рабов Его, внук адов, надежда и утешение басурман, падение и скорбь их же... »
Этот исторический эпизод и взял Репин для своей картины. Пестрая, веселая Сечь! Чертовский народ! Во всю жизнь Запорожье осталось свободным и ничему не подчинилось. Склонившись, писарь строчит под диктовку. Он едва успевает записывать взлетающие фейерверком острые, полные издевательств реплики.
Каждый казак вставляет свое язвительное словцо, которое сопровождается громовым хохотом.
Письмо турецкому султану Репин знал с детства, списки его широко ходили по Украине. Репин писал «Запорожцев» как одержимый! Он смешивал краски, даже не глядя на них. Полубродяжьи, расхристанные вольные герои! За выдвинутыми на первый план фигурами — фон военного лагеря, дымы костров, огней, начинающих светиться в сумерках. Каждый персонаж — тип, а все вместе они олицетворяют силу и мощь, которые никто не может преодолеть. Они отреклись от житейских благ и основали равноправное братство на защиту лучших своих принципов веры православной и личности человеческой... И вот эта горсть удальцов, эта интеллигенция своего времени, поскольку они большей частью получали образование, не только защищает всю Европу от восточных хищников, но даже грозит этим хищникам, от души смеясь над их восточным высокомерием!
Репин писал картину, целиком отдавшись идее — показать героизм, силу и мужество народа, спеть гимн во славу свободных людей. Но Репин не был бы Репиным, если бы живопись не доставляла ему эстетического наслаждения. Еще когда был ребенком, мать говорила ему: «Ну что это за срам, я со стыда сгорела в церкви: все люди как люди стоят, молятся, а ты, как дурак, разинул рот, поворачиваешься даже к иконостасу задом и все зеваешь по стенам!»
Илье Ефимовичу в его творчестве было необходимо увлечение сюжетом. Весь мир забыть, ничего не видеть, кроме живых форм! И всё же он знал, что, совершенствуя форму, художник не должен растерять по дороге драгоценнейшее качество художника — сердце. Вот почему на произведения Репина всегда был усиленный спрос. Каждому самому мелкому коллекционеру хотелось иметь у себя что-нибудь «репинское». Ловкие торговцы пускали в продажу несметное количество подделок. Популярность его была так велика, что ему приписывали даже те картины, которых он не писал. Так однажды на банкете, какой-то адвокат произнес:
— Да здравствует Репин, автор гениальной картины «Боярыня Морозова!»
— Присоединяюсь к вам всем сердцем, — отозвался Илья Ефимович. — Я тоже считаю «Боярыню Морозову» гениальной картиной, и был бы горд, если бы написал ее я, а не Суриков.
Всё, что вкладывал в свои картины Репин: скорбь, гражданский протест, юмор, непосредственно передавалось зрителям. Передавалось как искорки большого сердца художника, как бесхитростный ответ на его откровенность. И не было ничего удивительного в том, что огромная масса русского народа знала творчество Репина и высоко ценила его.
Архип Иванович Куинджи (1842 - 1910)

УКРАИНСКАЯ НОЧЬ
Архип Иванович Куинджи не был очень уж плодовитым живописцем, он не умел повторяться и не любил. «Пусть лучше — только это, что есть, я высказался главным, а второстепенное, второсортное никому не нужно», — говорил он.
У Куинджи был совершенно детский взгляд на мир. Может быть, потому, что рано остался сиротой. Отец умер, когда Архипу шел всего шестой год. Вскоре умерла мать. Лишившись родного угла, Архип жил у тетки в Мариуполе. Грамоте обучался на медные гроши в «вольной школе» грека-учителя. Учитель сам был едва грамотен, поэтому учение продолжалось недолго. Архип пас гусей, был подручным на строительстве храма -- дорогу в жизнь пробивал себе сам.
Страсть к рисованию в нем проявилась рано, и была настолько огромна, что он рисовал где только мог и чем только мог!
В девятнадцать лет, подкопив небольшую сумму, поехал в Петербург поступать в Академию художеств. Не приняли, конечно. Дважды поступал, дважды проваливал экзамен, но никто не слышал от него ни жалоб, ни сетований.
Работал ретушером в фотосалоне, и «сам-один» в своей каморке писал картины. Странная, исключительная судьба!
Только через семь лет Куинджи разрешили посещать Академию в качестве вольнослушателя. Проучившись три года, дойдя до натурного класса, он внезапно исчез, — жажда самостоятельности вернула его обратно в свою каморку. Независимо от французских импрессионистов, Куинджи изучил законы сочетания дополнительных тонов, а в области воздушной перспективы достиг высочайшего мастерства. Выношенное впечатление от природы и затем тщательный, до педантизма, подбор тонов, стали его неизменным приемом
Он сам обучил себя, сам воспитал свой дар. Скажет впоследствии: «Если художественное дарование настолько слабо, что его надо ставить под стеклянный колпак, а иначе оно погибнет, — туда ему и дорога! Если человеку дано что-нибудь сделать, он сделает».
Куинджи не признавал никаких традиций, опрокидывал все правила, все рецепты и делал так, как бродило у него в голове. Обладая уникальным восприятием цвета — от насыщенных контрастных тонов до мягких, «исчезающих», полутонов—справлялся с самыми сложными художественными задачами.
В 1876 году Архип Иванович представил петербургской публике картину «Украинская ночь», которую тотчас купил П. М. Третьяков.
Затаилась природа, тьма перемещается как живая; хуторок словно в сказке; и светит над этим миром яркая, знакомая и неведомая луна. Настроение южной ночи было передано в совершенстве. Просто, незатейливо, но так живо! Души зрителей наполнялись тихой радостью при виде картины, хотелось смотреть и смотреть на нее, руками трогать, хотелось. шагнуть в нее.
Увидев «Украинскую ночь», Репин воскликнул:
— Куинджи — гений!
— Гений! — эхом отозвался Крамской. — Не много таких насчитаешь.
Газеты писали, что этот пейзаж Куинджи совершенно убивает другие пейзажи на выставке.
И это действительно было так — настолько необычной, и, в то же время, до крайности правдивой казалась картина с ее глубочайшим небом, лунным светом на стенах хат и величаво-недвижным покоем.
Российские критики в один голос заявили, что ничего подобного искусство еще не знало.
«Не верится, что это могли сотворить обычные краски!»
«Задумываешься: не здесь ли предел для развития художника?»
Картина стала сенсацией. Начались споры вокруг творчества Куинджи.
|
|
Стали звучать заявления, что так писать нельзя, потому что это не картина, а живой момент. Архип Иванович не вступал в полемику. Что он мог сказать в оправдание своего творчества? Что, живя в Петербурге, тосковал по южной неге? Что эта тоска переродилась в конце концов в романтическую иллюзию, наполнив собой его жизнь и его творчество? Что никогда не забудет ночей, проведенных с пастушкой Настей под таинственной южной луной?.. Никто этого не поймет.
С «Украинской ночи» началась зрелая пора в творчестве Куинджи. Через два года его картины будут представлены в русском отделе Парижской выставки, и удостоятся самых высоких похвал.
ВЕЧЕР НА УКРАИНЕ
В 1878 году Куинджи показал Петербургу новую картину — «Вечер на Украине». Никогда еще в живописи не был передан закат солнца столь чарующе. Так мог увидеть только ребенок. А написать — волшебник. Но. волшебства здесь не было; к этой картине Куинджи шел очень долго, ибо только казалось, что здесь одно мимолетное впечатление от природы. Чтобы написать такую картину, надо многое повидать, уложить в своей памяти. Надо многое знать.
— Жаждой знаний Архип Иванович был охвачен всю свою жизнь. Он желал всё понимать не только в искусстве, но и в науке. Когда ему говорили, что не все научные вещи можно объяснить, что есть такие, которые требуют особой подготовки, он сердился:Как же это так, что я не могу понять? Ведь я же человек, я должен понимать всё! Мне не надо подробностей, мне надо главное. «Нельзя понять». Нет, это вы не умеете разъяснить просто.
Сам он писал очень просто. Он в совершенстве владел этой гениальной простотой и не верил, что другим такое владение не дано. Он подходил к художественной задаче с какой-то совсем своей, неожиданной, не общепринятой стороны. Лишенный настоящего образования, до всего доходя «сам-один», при даровитости натуры и богатстве жизненного опыта, Куинджи решал вопросы так, как подсказывало ему сердце.
Имя его не сходило со страниц петербургской печати. Картины этого непревзойденного мастера световых контрастов воспринимались как полная иллюзия действительности. Кроме Куинджи, не было ни одного художника, достигшего таких чудес в живописи. «Глядя на такие картины, я могу сделаться лучше, добрее, здоровее», — признавался Крамской.
|
|
Возле полотен Куинджи постоянно бурлила толпа, вызывая зависть к нему в художественной среде. Кое-кто из художников начал уличать Куинджи «в полном невежестве, в полном незнании техники». Архип Иванович не связывался, не пререкался. Не до этого ему было. Под руководством Д. И. Менделеева и физика Ф. Ф. Петрушевского он изучал влияние света на свойства красок в живописи. Упорным, настойчивым трудом достигал он виртуозного владения цветом и композиционной простоты.
БЕРЕЗОВАЯ РОЩА
Весь свой талант и энергию Куинджи отдавал изображению природы, раскрытию неисчерпаемых ее красот.
«Березовая роща». Начало лета, первых жарких дней с яркой и чистой листвой, сочными коврами трав. Влажная дымка воздуха. Ничего, кажется, особенного. Но публика бессменно толпилась перед этой картиной на выставке в Петербурге и в Москве. Было чувство открытия не только этого уголка леса, земли, но открытия для себя мира в целом. Мелкие солнечные кружки на березах играли живым, настоящим, светом, по зеленой опушке темнел ручеек, стволы берез выступали стереоскопическим рельефом. — создавалось впечатление огромной внутренности леса, уходящего — одна группа стволов за другой — вдаль.
|
|
— Это черт знает что такое, еще в первый раз я радуюсь, радуюсь всеми нервами моего существа. Вот оно, настоящее-то, то есть такое, как оно может быть! — восклицал художник Маковский.
— Это — не картина, а с нее картину можно писать, — удивлялся Шишкин. «Трудно теперь предсказать, куда пойдет пейзажная живопись, но перед ней распахнулось что-то широкое, светлое, совершенно новое, небывалое, чего никто не ожидал, о чем никто не смел думать. Какая же сила должна быть у художника, который так широко распахнул эти двери и открыл новую, неведомую область!» — писали газеты.
Все опасались только одного: долговечной ли будет комбинация красок, которую открыл Куинджи? Может быть, он соединил вместе такие краски, которые находятся в природном антагонизме между собой и, по истечении известного времени, потухнут или изменятся? И потомки будут пожимать плечами в недоумении: отчего приходили в восторг зрители? Во избежание такого будущего, Крамской даже предлагал засвидетельствовать протоколом, что полотна Куинджи действительно все наполнены светом и воздухом, что свечение и бездонность их настоящие.
Опасения оказались не напрасными. Смешение химически несовместимых красок стало горем не одного Архипа Ивановича. Эта живопись чернела со временем. Люди, видевшие картины Куинджи в годы их появления, впоследствии их не узнавали, -- так померк под черным «флером» некогда блестящий, могучий колорит.
Но все равно, симфонии Куинджи, взятые так просто, переданные такими, казалось бы, элементарными приемами, -- до тех пор, однако же, не приходившими в голову ни одному живописцу, -- овладевали зрителем и вливали в душу тихое, какое-то загадочное и сладостное ощущение.
ЛУННАЯ НОЧЬ НА ДНЕПРЕ
В 1880 году впервые на Руси появилась выставка отдельного художника, да притом одной только картины. И картина эта — не какой-нибудь грандиозный исторический сюжет, а скромный по размеру пейзаж. Буквально весь грамотный Петербург целыми днями осаждал помещение выставки. Кареты стояли по Большой Морской до самого Невского и загибали еще за угол по Невскому до Малой Морской.
Публику во избежание давки, приходилось впускать группами. В то время как одна группа толпилась перед картиной, другие длинной вереницей ждали на лестнице и густой толпой стояли у подъезда. Творилось что-то небывалое!
Картина была выставлена в темном помещении и освещена сбоку ламповым светом. «Что это такое? — стояли перед ней пораженные зрители.
-- Картина это или действительность? В золотой раме или в открытое окно виден этот месяц, эти облака, темная даль, эти «дрожащие огни печальных деревень» и переливы света, эти серебристые отражения месяца в струях Днепра, огибающего даль, эта поэтическая, тихая, величавая ночь? Нет ли тут фокуса? Не писал ли Куинджи на перламутре? Не искусственное ли освещение лампами придало картине такой блеск и такое обаяние?»
Иллюзия света была так полна, что иные наивные граждане просили разрешения заглянуть за ширму, на которой висела картина, чтобы удостовериться, не написана ли она на стекле и не просвечивается ли сквозь него какой-нибудь лампой.
Но те, кто видел картину днем, когда по воскресениям художник на два часа открывал для посетителей свою мастерскую, говорили, что при солнечном освещении она еще лучше.
Помимо удивительного светового эффекта, «Ночь на Днепре» была наполнена поэзией знойной, южной ночи с ее глубокими, таинственными тенями, с ее царственно-щедрым, бездонным небом.
Иван Николаевич Крамской сообщал в Москву Илье Репину: «Какую бурю восторгов поднял Куинджи! Вы, вероятно, уже слышали... Этакий молодец, — прелесть... »
По всему Петербургу разносился звук нерусского имени «Куинджи» — человека глубоко русского, только с восточным лицом, с черной бородой.
Газеты наперебой помещали отзывы о «Ночи на Днепре», в каждой из них появлялось по две-три, а то и больше статей о картине и ее авторе. Высказывались не только простые рецензенты, но и такие именитые люди как Дмитрий Иванович Менделеев.
В журналах, сколько-нибудь причастных к художеству, печатались обстоятельные статьи, целиком посвященные Куинджи и его значению в русской живописи; делались попытки определить его место и в европейской живописи.
Мариупольский пастух гусей, ретушер, художник-самоучка, никому не ведомый грек Куинджи завоевал столицу и Россию!
«Это не движение живописи вперед, а скачок, скачок огромный! «Ночь на Днепре» — это невиданное еще нигде могущество красок. Это не картина, а сама природа, перенесенная на полотно в миниатюре. Такой картины нет в целом мире, нет в мире искусства!» — восторгались ценители произведением Куинджи.
Не обошлось и без ядовитых укусов. Недруги Куинджи уверяли, что художник, будучи другом Менделеева, использует краски, составленные самим Менделеевым, и в них знаменитый химик добавляет фосфор. Другие распускали слух, что якобы петербургский университет предлагал Куинджи раскрыть секрет его красок в обмен на звание профессора химии, но он не согласился. Зависть, вызванная невиданным триумфом Куинджи, привела к травле художника. Дошло до того, что «Куинджи — вовсе и не художник, а пастух, убивший в Крыму художника и завладевший его картинами».
Полотна Куинджи отвечали страстному желанию новизны, каким в ту пору было охвачено русское общество. «Ночь на Днепре» еще до выставки купил за большие деньги великий князь Константин Константинович. Картина так полюбилась ему, что он не пожелал с ней расстаться. И после того как весь Петербург вдоволь на нее нагляделся, он взял ее с собой в кругосветное плавание.
Тогда же, под личным руководством Архипа Ивановича, картина была воспроизведена в олеографии, разошедшейся огромным количеством экземпляров.
Позднее он получил два заказа на повторения, долго работал над ними, но так и не отдал заказчикам: оба повторения остались в его мастерской.
Архип Иванович, не шутя, заявлял друзьям:
-- Буду миллионером, куплю землю в Крыму, устрою курорт для больных художников.
Один из его товарищей, который в молодости вместе с ним перебивался с хлеба на квас, вздумал сказать ему, что это нецелесообразно. Куинджи вышел из себя, и, задыхаясь, волнуясь, закричал на него:
-- А это ты забыл, как сам был в таком же положении? Забыл? Стыдился бы говорить так, сердца у тебя нет!
Для Куинджи прошлое не покрылось пеленой, не произошло с ним того, что часто происходит с людьми сытыми: бесчувственности. Он никогда не переставал понимать человека. В любое время к нему обращались -- в письмах, в личных просьбах -- нуждающиеся, настигнутые бедой товарищи, ученики, знакомые и даже незнакомые, и никто не встречал отказа.
Вечная готовность к самой широкой помощи была одним из трогательных и характерных свойств Архипа Ивановича.
Помогал он не только людям. В полдень ударяла пушка с Петропавловской крепости, и, казалось, все птицы города слетались на крышу дома, где жил художник. Он выходил к ним с мешочками разного зерна, кормил. Подбирал на улице больных и замерзших воробьев, галок, ворон. отогревал у себя в комнате, лечил и ухаживал за ними.
Жена Архипа Ивановича говорила ему с улыбкой:
— С тобой, Архип, вот что будет в конце концов. Приедет за тобой карета, скажут, что вот там на дороге ворона замерзает, спасай. И повезут тебя, только не к вороне, а в дом умалишенных.
Пройдет не так уж много времени, Архип Иванович Куинджи, знаменитый пейзажист, профессор Академии художеств будет миллионером. Будет за свой счет возить своих учеников в Европу, знакомить со знаменитыми памятниками и музеями, подарит Академии и Художественному обществу полмиллиона рублей для выдачи ежегодных премий по пейзажной живописи, купит несколько гектаров земли в Крыму, куда на лечение и отдых будут съезжаться живописцы.
Сам будет обходиться мизером, но помогать абсолютно всем, особенно собратьям по искусству: «Ведь они сидят, пишут, — ведь только один Бог знает, как это трудно. Ведь они с голоду умрут, пока их картины будут кому-нибудь нужны».
—Мы должны всегда держаться друг за друга, можем расходиться и спорить только в вопросах искусства, но никогда не должны оставлять друг друга в жизненной борьбе... — проповедовал Куинджи на собраниях в Академии.
Он вынашивал идею объединения живописцев в большой союз, «приучающий к солидарности, к моральной и материальной взаимопомощи, которые должны явиться на смену современной обострённой борьбе честолюбий и конкуренций из-за материальных выгод».
В результате было создано Общество имени А.И.Куинджи, объединившее несколько организаций художников, среди которых были представлены Академия художеств, «Союз русских художников», «Товарищество художников», «Мир Искусства», «Общество акварелистов», затем присоединились «Передвижники». Почти все свое состояние, все картины, этюды и эскизы Куинджи завещал этому Обществу, и лишь небольшую часть средств, достаточную для нормальной жизни, оставил жене и близким.

Василий Иванович Суриков (1848 – 1916)
 |
УТРО СТРЕЛЕЦКОЙ КАЗНИ
Василий Иванович Суриков родился в Красноярске. Род был древний, казачий: еще при Ермаке служил есаул по фамилии Суриков. Казаки жили в крепостях-острогах, окруженных рвами и бревенчатыми стенами. «Жестокая жизнь была в Сибири, — вспоминал свое детство художник. — Совсем XVII век. Мощные люди были. Сильные духом. Размах во всем. Казни и телесные наказания на площадях публично происходили. И сила какая была у людей: сто плетей выдерживали, не крикнув».
Из окон школы, где учился Василий Суриков, видна была городская площадь, на которой нередко происходили публичные наказания и казни. Школьники слышали барабанную дробь, сопровождавшую экзекуции, видели свистящую в воздухе плеть палача, но редко сквозь барабанную дробь прорывался вопль наказуемого, — кричать считалось позором. Красноярские мальчишки не боялись палачей, они их знали даже по именам: палач Сашка, палач Мишка.
Жизнь сибиряков всегда проходила бок о бок с каторжниками и беглыми. Поджоги, грабежи, разбой на дорогах. — всё это было обычным явлением, расправлялись за такое жестоко. Дважды Василий видел смертную казнь. Один раз казнили мужиков за поджог. Двое молодых, один старик. Все трое в белых рубахах. Их везли к месту казни в телеге, и рядом с телегой, в голос причитая, бежали их жены и матери. Приговоренных поставили на помост, солдаты взвели курки; раздался залп, и белые рубахи пошли красными пятнами. Василий стоял, оцепенев от ужаса. Второй раз он видел казнь политического. Его везли на телеге за город, и Василий с толпой своих сверстников пошел за телегой. Перед расстрелом политический крикнул: «Делайте то же, что я!» Потом, не спеша, поправил на себе рубаху. Василий подумал: «Как же это может быть, что человеку умирать, а он еще рубаху на себе поправляет!» Тут раздался залп, и у мальчика земля поплыла из-под ног.
Став художником, Василий Иванович Суриков не случайно избрал для своих картин исторические сюжеты. Образы шли к нему из Сибири. Всё было для него зримо, всё ощутимо. В сундуках матери видел он старинные пестрые сарафаны, расшитые шугаи, узорчатые дорогие шали, телогреи на меху, парчовые повойники. В подполье родительского дома хранились седла, ружья, пистоли, ятаганы, шашки. Было множество книг в доме — в кожаных переплетах с пожелтевшими страницами, они приковывали воображение к славе далеких предков.
Первым большим произведением художника стала картина «Утро стрелецкой казни». Он передал в ней не только трагедию стрельцов, защитников царевны Софьи, но и вложил в нее память о Сибири, о родном доме.
Хмурое утро. Вот-вот наступит день. Страшный день. Толпы зевак заполнили лобное место у Кремля. Кружит воронье, чует поживу. У подножия храма Василия Блаженного на телегах стрельцы -- ратники царевны Софьи, защитники старого царского уклада. Бунтовщики! Они покушались на самого царя Петра. Их ждет неминуемая казнь. Лютая! Но ни стонов, ни вздохов -- огромная площадь притихла, только живые трепетные огоньки свечей напоминают о быстротечности последних зловещих минут. Непокоренный, яростный взор вонзил стрелец в бесконечно далекого, окруженного свитой и стражей царя.
Петр видит его. Этот немой, полный ненависти диалог среди бушующего моря страстей человеческих -- страшен!
Петр только что вернулся из-за границы: известие о стрелецком мятеже вынудило его бросить все. За границу он отправился в 1697 году со свитой волонтеров для обучения кораблестроению. Работали на верфи в Голландии.
Потом поехали в Англию обучаться инженерному искусству кораблестроения. России был нужен свой флот! Работая и обучаясь наравне с другими и даже усерднее других, Петр еще успевал осматривать монетные дворы иностранных государств, арсеналы, промышленные предприятия, учебные заведения. Он меньше всего думал о себе, он думал о будущем России. А тут — мятеж! Сразу по приезде в Москву начал розыск, сам участвовал в допросах и пытках. Был твердо убежден, что бунт — дело рук сестры Софьи, которая уже восемь лет в заточении в Новодевичьем монастыре. Эх, Софья, Софья!.. С детства его ненавидела. Как уехал за границу, так и взялась стрельцов подбивать.
Изучая для картины эпоху Петра, Суриков бродил по музеям, по церквам, заходил в Кремль, в Оружейную палату, рассматривал там вороненую чеканку затворов на пищалях или старинный, поеденный молью кафтан стрельца. И ему тогда казалось, что он знал в лицо обладателя кафтана, того, кто глухой ночью, при свете факелов, под нависшими сводами дворцового подвала давал торжественную клятву до последнего вздоха служить одной только царевне Софье. Она вместе с преданными ей боярами Милославскими обещала стрельцам добрые старые времена. Ни одного иноземца, пригретого Петром, не будет на Руси! Ни одного чужеземного кафтана не останется на русских плечах! Но получилось — лобное место.
Долго из бойниц кремлевских стен торчали бревна с повешенными стрельцами, долго у Спасских ворот не убирали телег, нагруженных трупами. Безмолвный народ не мог подойти, а царь пировал с иноземцами в хоромах с окнами на Красную площадь, где бояре-шуты продолжали рубить головы посягнувших на великое дело — преобразование России.
Василий Иванович ходил из угла в угол по своей мастерской — пустой и гулкой, сердце и воображение его были с преображенцами и стрельцами. Вот они все! Стрельцы и стрелецкие семьи, выплеснувшие море скорби и отчаяния на площадь перед Кремлем, и «птенцы гнезда Петрова», преображенцы, которые вместе со своим «бомбардиром»—юным Петром начинали с потешных баталий, дойдя затем до настоящих, грозных орудий, до строительства российского флота. Впервые в русском, да и, пожалуй, мировом искусстве героем картины стал народ. Суриков делал титаническую работу!
В России с середины XIX века начался пересмотр отечественной истории. Становилось ясно, что реформы Петра I, направленные на усиление могущества России, имели и оборотную сторону: унижение русского человека. Петр насаждал иноземщину палкой, каторгой, солдатчиной. Никогда русские не кланялись чужому, знали цену себе, а при Петре — да и после него почти полтора столетия — вынуждены были ломать шапку. И вышло так, что в России получали права иностранцы, а своим не было ходу. Недаром Петра художник поместил в глубине картины, а впереди — пострадавших от него. Недаром русские — в русской одежде, а русский царь — в немецкой.
|
|
За работой художник вспоминал, как юношей приехал в Петербург в Академию. Его рисунки привели академиков в негодование! В Академии тогда царствовали чужие, к тому же допотопные сюжеты, и вдруг — предстало свое, родное, дышащее жизнью и самобытностью.
—Да за эти рисунки вам надо запретить даже ходить мимо Академии! — взъелся на Сурикова инспектор Шрейнцер.
Но у Академии уже были противники: вырастала своя, национальная школа. Упивались обретением русского взгляда на мир, и нравилось, нравилось думать по-русски и на русском, наконец-то, языке! Эти новые умы не дали погибнуть таланту Сурикова. А еще — не дала погибнуть крепкая сибирская закваска.
Появление на выставке «Утра стрелецкой казни» было ошеломляющим! Пораженный зритель впервые увидел народные массы в исторической правде. Суриков на своем полотне заставил жить и действовать десятки людей! Явственно, без единой утайки, показал он всю драматичность, трагичность страниц русской летописи. Всю меру страданий людских, страданий народа, который отвечал за всё.
Таких художников Россия еще не знала.
МЕНШИКОВ В БЕРЕЗОВЕ
Петербургский дворец князя Меншикова находился на Васильевском острове близко у берега Невы. Розовый, со ступенями, спускавшимися прямо к воде, Окруженный льстецами, «светлейший» садился в свою раззолоченную лодку, обитую внутри бархатом, переправлялся через Неву, причаливал к Исаакиевской пристани. Пересаживался в карету, запряженную шестеркой серых, в яблоках, коней. Впереди бежали скороходы, сзади ехали музыканты, за ними отряд драгун. Даже царь никогда не выезжал с такой пышностью, он почти всегда либо бегал пешком на верфь, либо скакал по делам на своем громадном коне.
Меншиков был любимцем Петра. За преданность, смекалку, безоглядную храбрость стал первым его другом. На Алексашку Меншикова Петр всегда мог положиться: не продаст, не подведет, ничего не забудет, головы не пожалеет, а сделает! Как и Петр, Меншиков жадно впитывал и с поразительной легкостью усваивал артиллерийское дело, фортификацию, кораблестроение. Блестящий полководец, он умел предвидеть многое из того, что потом приносило Петровым войскам победу. В Полтавской битве главная заслуга принадлежала Меншикову, он сделал все возможное для полного разгрома шведов. И недаром после битвы, тут же на поле перед войсками, Петр пожаловал своего помощника фельдмаршальским жезлом. И посыпались на Меншикова. милости, подарки, земли. «Дитя сердца моего», называл его Петр и терпел всю ту пышность, которой обставлял Меншиков каждый свой выезд.
Но и гнев Петра не раз обрушивался на Меншикова. Из-за безудержной алчности «светлейшего».
— Знаешь ли ты, что я разом поворочу тебя в прежнее состояние?! Опять будешь кричать: «Пироги подовые»! — топал ногами Петр.
Меньшиков в детстве торговал пирогами. Стать вторым лицом государства он мог только при Петре I, царе-реформаторе. При Петре появилась плеяда государственных деятелей, которые вышли из низов, и вошли в историю благодаря личным заслугам, а не родовитости. После смерти Петра, Меншиков сделал все, чтобы на престол взошла вдова Петра — Екатерина, как когда-то сделал все, чтобы царь женился на этой простой лифляндской служанке, попавшей к русским в плен во время Северной войны. Оба они — Меншиков и Екатерина — вышли из низов и добрались до самых вершин могущества.
Став императрицей, Екатерина возвела Меншикова в сан генералиссимуса. Но и этого уже было мало «светлейшему». Решил породниться с царским домом.
Заставил Екатерину завещать трон малолетнему сыну убитого царевича Алексея с условием, что будущий император женится на одной из его дочерей.
Но тут «светлейший» просчитался. Петр-внук, своенравный, красивый, не терпел покровительства Меншикова, называл его выскочкой, а Марию Меншикову, красавицу, нареченную свою невесту, ненавидел только за то, что она была дочерью «светлейшего». Бесчисленные враги князя нашептывали царевичу: «Меншиков бил твоего отца по щекам, присутствовал при его пытках!» И нашелся предлог, чтоб свалить могучего князя. Ему было приказано оставить Петербург. Вот уж тут враги распоясались! Всё дочиста отняли у генералиссимуса. Нажитое, пожалованное и награбленное богатство. Все почести, земли, вотчины, дворцы.
Уезжал он из Петербурга в золотой карете со свитой, но в Твери его затолкали в телегу и вместо свиты отрядили конвой.
Александра Даниловича с сыном и двумя дочерьми (жена умерла по дороге, не доехав до Казани) доставили в Березово — старинный уездный городок на севере Тобольской губернии. У самого берега Сосьвы, на пустыре, вырос домик в четыре комнаты и с часовенкой. Домик построил почти весь своими руками «светлейший». В одной комнатке поместились княжны, в другой — князь с сыном, в третьей — прислуга; четвертую комнату отвели под кладовую.
Страшная жизнь началась. Зима — лютая, дня почти нет, вместо него северная кромешная тьма. Дочери затеплят свечной огонек, подсядут к отцу и читают ему священные книги. Или Меншиков рассказывает им свое богатырское прошлое. Память Александра Даниловича удерживала сотни имен и дел. Поочередно дети записывали его рассказы, и так шли дни, недели, проходили месяцы.
На картине «Меншиков в Березове» князь сидит за столом, зоркие глаза его обращены в прошлое. Могучий муж! Художник уместил его с тремя детьми на крохотном пространстве низенькой избушки, как бы давая знать зрителю, до каких пределов сжалась бывшая беспредельность князя. Вокруг «светлейшего» расположились его дети. Мария — «бывшая царская невеста» — совсем больная, с темными кругами возле глаз.
В мастерской Сурикова, на холсте переливалась рубинами бархатная скатерть на столе, сапфиром — атласная юбка младшей дочери, топазом светилось лампадное масло в пузырьке на подоконнике. Два источника освещают всю группу: мертвенно белый свет за заиндевевшим оконцем и — тревожный, трепещущий, красноватый от лампады перед божницей, где оправленные в золото и серебро темные лики угодников напоминали о возмездии. И сколько здесь, не смотря на общий сумрачный колорит, сверкания и разнообразия цветов!
|
|
Окончив картину, Василий Иванович показал ее на Одиннадцатой передвижной выставке. Но даже великий защитник русского искусства Стасов обошел картину молчанием. Даже чуткий художник Крамской высказался неопределенно:
— Либо эта картина гениальна, либо я в ней еще не разобрался.
А что говорить о хулителях творчества Сурикова. Те хором кричали:
— Плохо нарисовано! Семья моржей!
— Грязные цвета!
«Провалился я нынче», — мрачно думал художник.
Понял произведение и правильно оценил его, пожалуй, один только Павел Михайлович Третьяков. Он почувствовал, что отсюда открываются новые пути для всей русской живописи. Он понял и психологическую глубину картины.
Суриков — этот русский до мозга костей человек — сделал огромный шаг вперед. «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове» — были единственные в России зрительные итоги целых эпох и проникновение в самую душу истории.
БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА
В 1655 году патриарх Никон начал проводить реформу Русской церкви. С согласия царя Алексея Михайловича тексты церковных книг исправлялись по греческим образцам и заново перепечатывались. Делали это греческие богословы. Верующих заставляли креститься не двумя перстами, а щепотью, «чертовым кукишем». Такого унижения Россия еще не знала!
Русские приняли христианство чуть ли не позднее всех других народов, приняли на душу неразвращенную, чистую; по верности души своей следовали ему, не представляя, что от Бога им данная вера и обряды могут быть искажены человеком властвующим.
Никон уверял паству, что делается это в силу необходимости, ибо в церковных книгах из-за множества переписываний, появились разночтения. Но русских протопопов (старших попов) такое объяснение не устраивало. Протопопы считали Русь единственной хранительницей неповрежденного православия, которое «давно замутилось у плененных турками греков — испроказилось».
— Смотрите, — доказывал им Никон, — святому саккосу сотни лет, а на нем изображенный символ веры с нашим разнится. Вышито: «Его же царствию не будет конца». А мы у себя чтём — «Его же царствию несть конца». Ну, как не выправить?
— И не надо выправлять! Ведь по греческому мудрствованию — конец есть, но боятся его и успокаивают — «не будет». Почто врут и двойничают? Мы-то знаем, что царствию Божьему несть конца! Несть! Стало быть — нету! Это грекам надо выправлять свои служебники по нашим! Везут и везут к нам мощи святых угодников, хитоны мучеников, гвозди многие. И ведь не так себе, не бескорыстным подношением, а за мзду! По-христиански ли это? Канючат подаяния на греческие церкви, на прокорм насельникам монастырским, а царь наш тишайший — пожалуйте. А они ему опять палец подносят, а то и всю руку святого или щепу от креста Господня. Подумать страшно, пальцев Иоанна Богослова с полусотни по Руси обретается! Как не грех промышлять сим?
Ненависть протопопов к Никону и греческим богословам была огромна.
Протопопы подвергались побоям, ссылкам, истязаниям, но продолжали обзывать греческих иерархов «блохочинными» и «побирушками». Пламенный борец за старую веру, протопоп Аввакум громогласно взывал к народу:
— Слыши небо и внуши земле! Вы будете свидетели нашей крови изливающейся! Нас винят, что еще держим неизменно отцов своих предание!
Царь неоднократно ссылал Аввакума далеко за пределы Москвы, но и оттуда — из Тобольска, из Даурских мест, с устья Печоры — гнев протопопа настигал никониан.
Аввакумовы послания ходили по рукам, переписывались, — некуда было деться царю и придворному духовенству от его «крика».
Народ поддерживал Аввакума:
— В Московском государстве не стало церкви Божией, все пастыри с патриархом губители, а не ревнители благочиния!
Ближайшей ученицей Аввакума была верховная боярыня Федосия Прокопьевна Морозова, родственница царя. Она тайно приняла от Аввакума монашество, устроила в своем доме раскольничий монастырь, собирала вокруг себя раскольников Москвы, раздала треть своего состояния во имя старообрядческой веры.
— С новой верой испоганится Русь! — жарко убеждала она. — Не будет в ней христианского благочестия, а будет всё больше сраму прибывать! И погинет вера Христова православная, и нельзя ей дать погинуть!
Царь приходил в ярость, когда слышал о «подвигах» Морозовой. Он требовал от нее отречения. Она не отреклась:
— Скажи, почто и отец твой веровал яко же и мы? — гневно стыдила царя. — Если я достойна озлобления, то извергни тело отца своего из гроба и предай его, проклявши, псам на съедение!
Тогда было велено отправить ее в тюрьму Псково-Печерского монастыря. Закованную в цепи, с ошейником, Морозову посадили на дровни и повезли через Кремль мимо царских теремов. Но и под тяжестью огромных цепей Федосия осеняла себя крестным знамением, посылая к царским окнам десницу с двуперстием.
На улице шум и смятенье,
Народ словно море шумит.
В санях, не страшась заточенья,
Боярыня гордо сидит.
И верит она, не погибнет
Идея свободной мольбы.
Настанет пора, и воздвигнут
Ей памятник вместо дыбы.
(Из старообрядческих духовных стихов).
Единственный сын Морозовой, четырнадцатилетний отрок Иван, заболел с горя. Бояре недоумевали: восемь тысяч крестьян у Морозовой, домообзаведения на двести тысяч, — ей ничего не жаль. Сына не щадит, наследника всему!
Вскоре Федосию вернули назад в Москву. Приволокли в пыточную избу.
— На костре сожгу! Отрекись! — добивался от нее Алексей.
Она кричала высоким, резким голосом:
— Для меня великая честь, если сподоблюсь быть огнем сожжена!
Даже на дыбе, с вывернутыми в плечах суставами, с огромными порезами на руках, таких, что видны были жилы, она не отреклась.
Боярыню Морозову увезли в острог Боровского монастыря, заключив в земляную тюрьму. Свезли в Боровск и сестру Морозовой, княгиню Урусову, которая тоже горячо поддерживала раскол. Там сестры умерли голодной смертью.
— Видите, видите клокочуща христопродавца!.. — проклинал царя Аввакум, посаженный тоже в земляную тюрьму. — Иных за ребра вешал, а иных во льду заморозил, а боярынь, живых засадя, уморил в пятисаженных ямах!
После смерти царя Алексея Михайловича, протопоп стал настойчиво взывать к его сыну о возвращении истинного православия. Последовал царский приказ: «Уничтожить еретика!» Аввакума вместе с тремя единомышленниками сожгли в срубе. Однако раскол остановить не удалось. Тысячи людей уходили в леса Поволжья, Урала, Сибири, прячась от царя и патриарха. Жили общинами, трудно, порой невыносимо, но справляли церковные обряды так, как делали их отцы и деды.
Об этой народной трагедии Василий Иванович Суриков знал с детства, — матушка его была из глубоко верующей семьи. Помнил рассказ о Федосии Морозовой и Евдокии Урусовой.
— Сидят они в яме, цепями прикованные. В голоде, холоде, в язвах и паразитах, рубищами прикрытые. «Миленький, — просит стража Федосия Прокопьевна, — дай хоть корочку, не мне, сестре». А сама смотрит на него из ямы. Щеки ввалились, лицом бледная, а глаза аж светятся в темноте. Страж,
глядючи на нее, сам-то плачет да и отвечает: «Не приказано, боярыня-матушка!»
|
|
А она ему: «Спасибо, батюшка, что ты веру нашу в терпении укрепляешь».
Вася Суриков сном-духом не ведал, слушая, во что превратится для него этот рассказ.
В 1887 году Россия готовилась праздновать восьмисотлетие перенесения мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари, и Василий Иванович решил написать к этому событию «Боярыню Морозову»: остановить мгновение, когда истерзанную, измученную, но не сломленную в вере Федосию Прокопьевну влачат в розвальнях через всю Москву по кишащим народом улицам.
Будто огромное окно распахнул Суриков в холодную, трагическую Русь. Поникшие головы, задавленных, сжатых людей, не властных сказать свое настоящее слово. Не властных сказать! Вот оно то, отчего не раз Россия была на грани гибели!
Зато сказал свое слово Суриков. Это же свои, русские люди, своя история, свой гнев, своя драма. Симпатии Сурикова были на стороне Морозовой и всех, кто крепок духом, кто не согнется ни от угроз, ни от пыток. Воздетые к небу руки Морозовой сложены в староверческом двуперстии. Жутко звучат ее речи, обличающие патриарха и царя. Лютой ненавистью к богоотступникам горят глаза. Со скорбью взирают на «крамольную» боярыню люди, и значит, правда за ними, правда православия и души, отданной православию, и нет другой правды. Подвиг Морозовой благословляет юродивый — самый безгрешный человек на Руси. Но хари в богатых шубах хихикают, глумятся. Поп ощерил рот: ничего ему не надо, кроме собственного брюха, он и мать, и брата заложит за сытый живот.
Сложная и страшная правда! Не царский бунт — народная драма. Высшая драма, ибо она касается посягательства не на что-нибудь, а на самое святое, что есть в человеке, — веру!
«Боярыня Морозова» появилась на Пятнадцатой передвижной выставке. Стасов, который раньше почти не замечал Сурикова, на этот раз не мог прийти в себя: «Я вчера и сегодня точно как рехнувшийся!» И писал в отчете о выставке: «Суриков создал теперь такую картину, которая, по-моему, есть первая из всех наших картин на сюжеты из русской истории. Выше и дальше этой картины наше искусство не ходило еще!»
Картину приобрел Павел Михайлович Третьяков, сделав в галерее отдельный Суриковский зал.
ВЗЯТИЕ СНЕЖНОГО ГОРОДКА
— Не имеете ли вы сведений о Сурикове из Сибири? Какая это потеря для русского искусства — его отъезд в Красноярск и нежелание больше писать! — спрашивал Стасов Третьякова.
А Суриков в это время работал так, как давно ему не работалось. Легко писал, быстро, без мучительных спадов и сомнений. Картина — 4 аршина в длину и 2 в высоту — стояла на мольберте в верхнем зальце отчего дома. Горячее ликование охватывало Василия Ивановича, когда он писал лица милых своих земляков, богатые узоры тюменских ковров, росписи дуг, старинные кошевы. Смеялся, выбегал на улицу, лепил снежки, швыряя их как можно дальше, — удаль!
Мысль написать «Взятие снежного городка» подал Василию Ивановичу его брат Саша. Игра эта осталась от глубокой старины в память завоевания Сибири Ермаком. «Городок» был отголоском целой эпохи, когда русские поселенцы должны были обороняться от «инородческих» племен, населявших Сибирь, и когда казачьи дружины воевали одну за другой татарские крепости и городки. Каждый год, на Масленицу, сибиряки «ладили» ледяной город.
Порой он делался широким кольцом, по гребню втыкались елочки, в середине города, на шестах, развивались флаги. Потеха начиналась в полдень. Гремели выстрелы, носились мальчишки с оглушительными трещотками. Народ высыпал к городку: кто пешком, кто верхом, кто в каретах. Вылетал откуда-нибудь из переулка всадник, хлестал коня, мчался прямо на потешный город. За ним другой, третий. Ближе, ближе. Во всадников кидали снежками, льдинками, мерзлым конским пометом; бабы визжали и взмахивали платками и вицами перед самыми мордами взвившихся на дыбы лошадей, не давая им перескочить через горы снега, взять городок.
Суриков на своей картине изобразил момент, когда один из всадников, вырвавшись вперед, перескакивает через снеговую стену. Веселье, хохот вокруг!. Картина была представлена в Петербурге в мае 1891 года. В этот год на художественной выставке присутствовали почему-то всё небольшие вещи, и почти все какого-то унылого духа. А тут — размах, буйство красок и народное веселье буквально ворвались в залы!
|
|
Увы, большинству зрителей оказалась непонятна и неприятна жизнеутверждающая свежесть Сурикова. А присяжные рецензенты, те накинулись на художника, не придумывая веских доводов.
«Наудачу взята чуждая нашим нравам житейская мелочь».
«В картине режет глаза жестокая пестрота красок!»
«Картина написана в известном пошибе господина Сурикова.»
Но, читая эти нападки, Василий Иванович уже не падал духом, как то было с ним после «Меншикова». Улыбался: «Если на меня лают собаки, значит, я крепко держусь в седле!»
ПОКОРЕНИЕ СИБИРИ ЕРМАКОМ
Картина «Взятие снежного городка» подтолкнула Василия Ивановича к мысли взяться за большое историческое полотно о Ермаке. Сибирский поход Ермака давно и сильно будоражил его художественное воображение, к тому же предки Василия Ивановича вместе с Ермаком завоевывали Сибирь, осели на новых землях и основали будущий город Красноярск.
Покорение Сибири было событием чрезвычайной исторической значимости. Это была борьба, прежде всего, с ханом Кучумом, который властвовал грабежами и разбоями и, собрав пестрое многоплеменное войско, дошел до Урала, угрожая Поволжью и другим исконным русским землям. Крупные солепромышленники Строгановы, владельцы громадных уральских земель, терпели от набегов Кучума непоправимые беды, слали в Москву отчаянные письма, прося разрешения набрать казаков в свои городки. Но власти позволили им набрать «охочих людей» только в своем уезде.
Владелец Чусовской вотчины Максим Строганов больше всех страдал от нападений из-за Урала. Попав в безвыходное положение, он ослушался царского приказа и послал за казаками на Волгу, откуда во главе с Ермаком прибыла тысяча казаков «с огненным боем», то есть с ружьями и пушками. Когда нагрянули татары царевича Алея, Ермак не дал им разорить Чусовские городки. Отбитый на реке Чусовой Алей ушел к Соли Камской и учинил там дикий погром. «И с тех мест, — утверждали гонцы, — учели оне, Ермак со товарыщи, мыслить и збираться как бы им дойти до Сибирской земли и того царя Кучюма».
Строгановы призадумались, понимая трудность затеянного похода гораздо лучше, чем казаки. Строгановские «людишки» давно бороздили Чусовую — единственную реку, пересекающую Уральский хребет, — поэтому Строгановы имели точные представления о силах и ресурсах «царства» Кучума: у сибирского хана было несколько тысяч воинов. Знали и то, что в дни осеннего паводка вода в горных реках после сильных дождей поднималась, и тогда перевалы становились доступными для перетаскивания судов волоком. На легких ладьях казаки могли вести летучую войну с татарами и даже захватить внезапным набегом их столицу Кашлык. Но затем Кашлык неизбежно стал бы для них ловушкой. Глубокие снега и льды отрезали бы отряду путь к отступлению. Выдержать длительную войну с многотысячной татарской ратью казаки бы не смогли. И все же ненасытные Строгановы заранее испросили у Ивана Грозного жалованную грамоту на земли по Тоболу, Иртышу и Оби.
Заботило Строгановых и другое обстоятельство. По уходу Ермака за Урал ничто не помешает Алею опустошить их владения. Страшась этого, они не решились отпустить с Ермаком стрельцов и пушкарей, служивших в их городках. Ермак взял с собой шестьдесят человек «тутошних людей», тем дело и ограничилось. (Придет время и Строгановы начнут доказывать, что их предки предоставили Ермаку «запасы многие», пушечки и скорострельные пищали, а, кроме того, отпустили с ним своих ратных людей из пермских городков — «предобрых воинов триста человек»).
1 сентября 1582 года казаки выступили в поход, о чем донес царю воевода Чердыни Василий Перепелицын. Дружина Ермака насчитывала чуть больше пятисот воинов. Ермак понимал, что только стремительное и внезапное нападение может привести его к победе, и потому спешил изо всех сил. Длительных остановок в пути не было. Преодоление горных перевалов сопрягалось с огромными трудностями. С топором в руках казаки сами прокладывали себе путь: расчищали завалы, валили деревья, рубили просеку. У них не было времени и сил убирать камни, вследствие чего они не могли волочить суда по земле, используя катки, а тащили суда в гору «на себе», то есть на плечах.
По перевалу проходила граница между Европой и Азией. Там, дав передышку людям, Ермак приказал начать спуск судов по азиатскому склону Уральского хребта. На спуск казаки затратили много сил, но это было уже не то сверхчеловеческое напряжение, которое потребовалось на подъеме.
Флотилия Ермака под парусами поплыла вниз по сибирским рекам, используя течение и попутные ветры. Судовым кормчим пришлось впервые прокладывать путь по незнакомым им местам, что требовало осмотрительности и хороших навигационных навыков. Им помогали бывалые Строгановские «людишки».
Первое столкновение с татарами произошло у деревни Епанчин. Ермак потерпел неудачу и не смог добыть «языка», столь необходимого в начале похода.
Более того, бежавшие из-под Епанчина татары добрались до Кашлыка раньше Ермака, сибирский хан получил от них известие о появлении русских. Элемент внезапности, на который рассчитывал Ермак, был безвозвратно утерян. Но тут помог сам Кучум, которого подвели его расчеты. Получив точную информацию о малочисленности отряда Ермака, Кучум не мог предположить, что тот решится вступить в единоборство с его ратями, обладавшими подавляющим превосходством сил. Он знал, что казаки в случае малейшей задержки в Зауралье окажутся в западне, поскольку горные реки станут недоступны для судов после окончания короткого периода дождей. Вот почему престарелый хан ни минуты не сомневался в том, что русские без промедления повернут вспять. Какого же было его изумление, когда казаки подошли к Кашлыку! «Приходу на себя Ермакова я не чаял, а чаял, что он воротитца назад на Чюсовую».
|
|
На своей картине «Покорение Сибири Ермаком» художник запечатлел момент взятия Кашлыка. Казачья флотилия движется навстречу туземному войску, но казаки спокойны. На их лицах нет и следа боязни; хотя нет и показного героизма. Без суеты и спешки они делают свое дело. Противоположны казакам неистовые лица и резкие движения туземцев, прижатых к подножию берега. Тревогу и смятение в их лагере подчеркивает своим разорванным силуэтом конница на верху горы.
В этом бою казаки стремительно атаковали конное и пешее воинство Кучума и опрокинули его. Хантские князьки, напуганные залпами огнестрельных орудий, первыми покинули поле боя. Их примеру последовали мансийские воины, укрывшись после отступления в непроходимых болотах. Преследуя бегущего врага, казаки ранили главного татарского военачальника хана Маметкула. Татары с трудом спасли его от плена, и на лодке переправили за Иртыш. Кучум, наблюдавший за боем с вершины Чувашевой горы, отступил на юг, так и не приняв участия в баталии. Казаки в тот же день беспрепятственно вступили в покинутую татарами столицу царства.
В «Ермаке» Суриков поднялся на необычайную, даже для него, высоту исторического прозрения. Недаром он утверждал, что композиция картины, то есть расстановка движущихся сил, была им продумана и решена до того, как он ознакомился с летописным изложением события. «А я ведь летописи и не читал. Она (картина) сама мне так представилась: две стихии встречаются.
А когда я, потом уж, Кунгурскую летопись начал читать, вижу, совсем, как у меня. Совсем похоже. Кучум ведь на горе стоял. Там у меня скачущие». В чертах Ермака художник обобщил знакомые черты сибирских казаков, главной из которых было присутствие несокрушимой воли.
Работа над картиной «Покорение Сибири Ермаком» потребовала от художника массу времени, поисков соответствующей натуры и такого напряженного труда, который исключал всякую возможность другой сколько- нибудь серьезной работы.
Художник Нестеров увидел законченное полотно одним из первых. «Я чувствовал, что с каждой минутой больше и больше становлюсь если не участником, то свидетелем огромной человеческой драмы, бойни не на живот, а на смерть, именуемой Покорение Сибири... Суровая природа усугубляет суровые деяния. Вот он, Ермак (с вытянутой вперед рукой), на втором, на третьем плане; его воля — непреклонная воля, воля не момента, а неизбежности, «рока» над обреченной людской стаей».
ПЕРЕХОД СУВОРОВА ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ
К столетию Итальянского похода Суворова, состоявшегося в 1799 году, Василий Иванович решает написать картину «Переход Суворова через Альпы». Сюжетом для картины Суриков избрал момент, когда русская армия спускается с горы Паникс.
Предварительно изучив историю этого знаменитого перехода, художник поехал в Швейцарию, чтобы писать этюды на месте.
Увидев отвесные скалы, дикость ущелий, услышав рев горных рек, Суриков проникся величайшей гордостью за Суворова и его чудо-богатырей! И стало омерзительно тошно за предательство русской армии ее союзниками. Эти «храбрецы», так боявшиеся Наполеона, еще сильней испугались русской отваги, «забыв», что сами умоляли Россию вступить в антифранцузскую коалицию, и умоляли Павла I назначить командующим Суворова — не потерпевшего ни одного поражения в своей военной карьере.
Им стало страшно, когда русская армия в короткие сроки освободила Северную Италию, предполагая развернуть наступление на Францию и нанести главный удар.
Сговорившись, Австрия и Великобритания направили русских в Швейцарию — для соединения с действовавшим корпусом Римского-Корсакова, чтобы объединенной армией якобы идти на Францию.
Русские за шесть суток преодолели 150 километров, перевалив через Сен- Готард.
Но по прибытии в пункт назначения обнаружилось, что австрийцы, в нарушение достигнутых договорённостей, не доставили туда мулов, необходимых для перевозки провианта и артиллерии. Между тем свою артиллерию и обозы русские отправили другим путём. Мулы были доставлены только через четыре дня, было потеряно время, и французы за этот срок укрепились на ключевом перевале всего маршрута.
Более того, австрийцы дали ложные сведения о численности французской армии, преуменьшив ее почти втрое, и солгали, что вдоль Люцернского озера идет пешеходная тропа, которой на самом деле не было.
В этой сложнейшей ситуации русские проявили несокрушимое мужество — за один день Сен-Готардский перевал, единственная возможность пройти на север, был взят. Армия Суворова вышла к Чёртову мосту, перекинутому через реку на двадцатиметровой высоте и охраняемому французами. Обойдя вражеские войска по дну ущелья, русские ударили в тыл тоннеля, напрямую примыкавшего к мосту.
Это было чудом! Орловские, тульские, вологодские мужики, дети равнин, совершили подъем почти по отвесной скале и, ворвавшись в темень тоннеля, гнали французов к выходу. На мосту завязался жестокий бой. Отступая, французы разрушили один из пролетов, не давая русским добраться до них. Тогда гренадеры разобрали стоящий на склоне горы сарай, в невероятном хаосе и сутолоке притащили доски на мост, связали их шелковыми шарфами офицеров и, перекинув через пропасть, — «восстановили» пролет.
Суворовские солдаты навсегда покрыли себя воинской славой; невероятное сражение, которое они вели в тяжелейших условиях, попало во все учебники военной истории как образец беспримерного мужества и героизма, выносливости и стойкости.
Русское войско вступило в Альтдорф. И вот тут Суворов обнаружил отсутствие дороги вдоль Люцернского озера, о которой ему говорили австрийцы. Между тем начал заканчиваться провиант. У соседнего озера сосредотачивались французские войска.
Суворов принял решение направить армию через мощный горный хребет, и, перейдя через него, выйти в долину. Во время этого перехода Александр Васильевич, которому уже исполнилось 68 лет, тяжело заболел. И все же через 12 часов армия спустилась к деревне Муттен.
Деревня оказалась занятой французами. Русские начали штурм, противник от их дикого натиска побежал. К вечеру все суворовские войска сосредоточились в Муттенской долине и здесь узнали о поражении корпуса Римского-Корсакова.
Армию Суворова тоже могло ожидать поражение: практически не осталось провианта и патронов, одежда и обувь износились, многие солдаты и офицеры были босы.
Это было известно противнику. Собрав мощные силы, он пошел в наступление.
На военном совете Суворов со слезами обратился к своим генералам:
— Мы окружены горами. окружены врагом сильным, возгордившимся победою. Со времени дела при Пруте, при государе императоре Петре Великом, русские войска никогда не были в таком гибелью грозящем положении. Нет, это уже не измена, а явное предательство. разумное, рассчитанное предательство нас, столько крови своей проливших за спасение Австрии!
Помощи теперь ждать не от кого, одна надежда на Бога, другая — на величайшую храбрость и высочайшее самоотвержение войск, вами предводимых. Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире! Мы на краю пропасти, но мы — русские! С нами Бог! Спасите, спасите честь и достояние России!.. — Суворов разрыдался
20 сентября 1799 года в Муттенской долине 7-тысячный арьергард русской армии, прикрывавший Суворова с тыла, разгромил 15-тысячную группировку французских войск под командованием Массены — лучшего генерала Наполеона.
Русские солдаты сражались настолько яростно, с такой невероятной озлобленностью и мужеством, что, потеряв в бою оружие, хватались за камни или бежали на противника с одними ножами.
В этом решающем сражении главнокомандующий Массена был сдернут с лошади унтер-офицером Иваном Махотиным, и еле вырвался, оставив в его руках золотой эполет.
Французы побежали, из наступающих превратившись в преследуемых.
— Слава, слава! — торжествовал Суворов. — Богатыри! Бог нас водит — он нам Генерал!
Эта весьма скромная по масштабам войны битва, стала для всего мира символом духа русского солдата. В России про неё слагались стихи, про неё рассказывали в школах, а храбрость простого русского воина приводили в пример в военных училищах.
Последним испытанием для русской армии стал спуск с горы Паникс. Генералитет принял решение пробиваться Суворову в долину реки Рейсы на соединение с остатками корпуса Римского-Корсакова.
Это был последний и один из наиболее тяжёлых переходов. Были сброшены в пропасть почти все пушки, свои и отбитые у французов, потеряно около трехсот мулов. Французы нападали на арьергард русской армии, но, даже имея запас пуль и артиллерию, обращались в бегство от русских штыковых атак.
|
|
Именно этот переход изобразил Василий Иванович Суриков на своей картине.
В стремительном лавинообразном спуске с отвесных склонов швейцарских Альп показал он русских солдат. У самого края отвесной кручи на коне — полководец Александр Суворов. На его ободряющую шутку откликаются солдаты.
Но тем, кто уже начал спуск, не до смеха: крестится седой бывалый ветеран; с трудом удерживают тяжелую полевую пушку солдаты справа, воин рядом закрыл лицо плащом, чтобы не видеть пропасть.
С прибытием в австрийский город Фельдкирху поход Суворова завершился.
В этом походе потери русской армии, вышедшей из окружения без продовольствия и боеприпасов и разбившей все войска на своём пути, составили около пяти тысяч человек, многие из которых разбились при переходах. Было захвачено в плен 2778 французских солдат и офицеров, которых Суворов сумел прокормить и вывести из Альп как свидетельство великого подвига. Французы потеряли убитыми втрое больше, чем русские.
Суворов с триумфом вернулся домой, несмотря на неудачные итоги всей кампании. За этот поход Александр Васильевич был удостоен высшего воинского звания — генералиссимуса, став четвёртым генералиссимусом в России.
А в честь русских солдат на одной из скал перевала Сен-Готард был высечен тридцатиметровый крест.
В 1899 году Василий Иванович Суриков представил Петербургу свою картину «Переход Суворова через Альпы». Картина была приобретена императором Николаем II. Однако большого художественного резонанса не получила.
«Значение Василия Сурикова как гениального ясновидца прошлого для русского общества огромно и все еще недостаточно оценено и понято, — сетовал Александр Бену. — Никакие археологические изыскания, никакие книги и документы, ни даже превосходные исторические романы не могли бы так сблизить нас с прошлым. Никакие славянофильские рассуждения не способны были открыть такие прочные, кровные, жизненные связи между вчерашним и нынешним днем России, какие открылись в суриковских картинах.
Его герои, несомненно, тогдашние люди, но они в то же время, несомненно,
родные наши отцы, несомненные предки всех тех полувизантийских, полувосточных — странных, загадочных — элементов, из которых состоит вся русская современность. Их чувственность — наша чувственность, их дикие, сложные страсти — наши страсти, их мистическая прелесть — все та же чисто русская прелесть, которую не удалось еще смыть с русского народа, несмотря на долголетнее растление его».
Виктор Михайлович Васнецов (1848 - 1926)
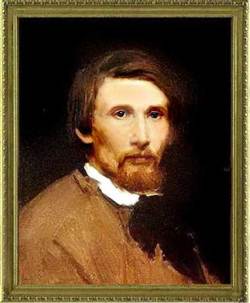
АЛЕНУШКА
Главный свой багаж человек выносит из детства, и что бы ни случилось, как бы потом ни распорядилась судьба, детские впечатления остаются точным указателем при выборе пути. Дом в деревне Рябово Вятской губернии, где провел свое детство Виктор Васнецов, был наполнен сказками. Рассказывала их стряпуха -- долгими зимними вечерами, когда за окнами не видать ни зги, в кухне топится печь, и дети, расположившись вокруг стряпухи, слушают ее тихий старческий голос. Сколько она знала этих сказок! Это была вторая Арина Родионовна. Не мудрено, что, став художником, Виктор Васнецов обратился к сказке. Он раскрывал в своих полотнах узорчатость, нарядность, фантазию, вековую народную мудрость, и, облаченную в поэтическую форму, мечту. Это было новое направление в живописи, поэтому Васнецова приняли не все и не сразу.
«Трудно будет Виктору Михайловичу пробить рутину художественных вкусов», — говорил художник Крамской. И критик Стасов замечал то же: «Русское искусство точно барич навыворот воспитанный: оно было дрессировано так, чтобы говорить и на один манер и на другой: как угодно, только бы не по-своему, не своим языком и голосом. Да еще этим же и гордиться».
Случалось, у Васнецова опускались руки. Что требовало от него общество, он делать не мог, а что делал — того не требовалось. Однажды возле деревни Ахтырка под Москвой, Виктор Михайлович встретил крестьянскую девочку- подростка. В ситцевом дырявом сарафане шла она, погруженная в какие-то думы, одинокая, замкнутая. И столько тоскливой печали выражали ее глаза, что художник припомнил родную Вятку. Там дети тоже рано узнавали тяготы жизни. Отцы уходили на заработки в далекие горы на шахты, где, проработав зиму (их так и называли зимогорами), возвращались домой, рассчитывая гроши, чтобы хватило на всё — на подати и на жизнь. Случалось, не возвращались, гибли в шахтах, оставляя сиротами семерых по лавкам. Не раз видел Витя, как плакали в лесу крестьянские женщины, в голос причитая над своей участью, обняв руками березоньку, грудью прижимаясь к ней и качаясь вместе с ней из стороны в сторону.
У Васнецова явилась мысль написать картину «Аленушка», и неясный еще образ девочки-сиротиночки стал обретать живые, волнующие черты. Он сделал несколько этюдов с крестьянских девочек, несколько пейзажных этюдов, и, собрав материал, приступил к работе.«Камушком на камушке» сидит Аленушка у самого омута, вглядываясь в его темную, зовущую глубину. С милой детской неуклюжестью поджаты ее босые, натоптанные ноги, печально склонилась голова, руки обняли колени. Давно выцвела ее когда-то голубая кофточка, в дырках старенький сарафан. Разметались золотисто-рыжие волосы. Почти некрасиво ее заплаканное лицо. Печален и день без солнышка. Как слезы, падают на темную поверхность омута осиновые листочки.
Картина появилась в 1881 году на московской выставке, полюбилась зрителям своей задушевностью и простотой, но, видя в ней только сказочную Аленушку, публика была несколько в недоумении. По сюжету сказки, Аленушка должна лежать на дне омута, с камнем на шее, а на берегу должен бегать козленочек. Кто же не знает его предсмертного моления о помощи: «Сестрица Аленушка, выплынь, выплынь на бережок! Костры горят горючие, котлы кипят кипучие. Хотят меня зарезати!» Но Виктор Михайлович отбросил игру народной фантазии, бережно сохранив лишь существо сказки — грустное повествование о девушке-сироте. Пейзаж тоже незамысловат: несколько молоденьких осинок и елочек, осока да серые камни. И все же. как много в этом пейзаже нежного, светлого! Как и в образе Аленушки, оплакивающей свою участь.
Произведения такого скорбного, и в то же время светлого единства еще не знала русская живопись. Это был не жанр, не сказка. Это была нежная лирическая поэма.
Простая до последней степени, она вся вылилась из чистого чувства
|
|
«Ясное солнышко», — назвал Васнецова художник Крамской, сумевший понять своеобразие его характера, и почувствовать, как бьется в Васнецове особая струнка.
СНЕГУРОЧКА
Большое значение в жизни Виктора Михайловича Васнецова имело знакомство с заводчиком, строителем железных дорог, капиталистом и меценатом Саввой Мамонтовым. Мамонтов хорошо чувствовал талантливых людей. Всю жизнь прожил среди них, да и сам был исключительно даровит. В своем подмосковном имении Абрамцево он объединил большую семью русских художников, музыкантов, артистов, создав тем самым центр художественной жизни России. Здесь интересовались русской историей, собирали и изучали произведения крестьянского искусства, были организованы мастерские живописи, керамики и резьбы по дереву. Абрамцево стало очагом возрождения лучших традиций русской национальной культуры.
В имении Мамонтова месяцами жили и работали Левитан, Серов, Репин, Врубель, Коровин, Поленов. Писали картины и декорации, и просто отдыхали среди красивой природы. В 1881 году Мамонтов решил поставить на домашней сцене пьесу Островского «Снегурочка», предложив Васнецову написать декорации.
Сказку о девочке-снегурочке Васнецов знал с детства, но лишь взрослым человеком понял, как много вложено в этот нехитрый сюжет. Начать с того, что Дед Мороз и Николай Чудотворец — одно и то же лицо. Почитание Николая Чудотворца пережило в России многие столетия; простодушие народа перенесло на Николу черты Деда Мороза из древних славянских верований -- и так сложился единый образ. Сама же Снегурочка -- это, пожалуй, одушевленная народной фантазией елочка в зимнем лесу, где вместо коряг -медведи; елочки -- как боярышни в шубках и круглых шапочках; вокруг -избушки, снеговики, зверушки. И по этому сказочному миру бриллиантовые россыпи.
Однако же предложение Мамонтова озадачило Васнецова. Во-первых, он никогда не писал декораций, а во-вторых, известная ему сказка «Снегурочка» ничего общего не имела с сочинением Островского. У Островского Снегурочка — это девушка, которую отец Мороз, не доверяя легкомысленной матери Весне, воспитывает сам в дремучем лесу, куда ни пешему, ни конному нет дороги.
И все-таки слышит Снегурочка нежные песни пастушка Леля, слышит смех парней и девушек из Берендеева посада, когда они устраивают игры на берегу реки. и любопытно ей. Весна упрекает Мороза: «С людьми Снегурочке жить надо. Играть в горелки с подружками, гулять с ребятами до полуночи. А там — полюбится один. На свете всё живое должно любить!» Но именно этого Мороз боится. Полюбит дочь и сгорит в любовном огне. Нет, пусть уж лучше живет в лесу, играет с белками и зайчатами, прядет снег, бобровою опушкой тулупчик свой и шапки обшивает. Однако Весна настаивает, и Мороз отпускает Снегурочку. Познает Снегурочка и человеческую тоску, и ревность, и пламя любви.
Подлинное искусство предполагает в творческой личности два главных свойства: природный талант и сильный характер, без которого ничего не будет, все пройдет впустую.
Васнецов обладал тем и другим, и принялся за работу. Написал к спектаклю четыре декорации. Как удалось, и сам не понимал.
И вот — поднялся занавес. Зрители глянули, и дыхание перехватило. Нежная зимняя лунная ночь, искры инея на сугробах, влажный ветер на деревьях. От засыпанной снегом коряги отделилась странная фигура, и все тотчас поняли — Леший.
Конец зиме пропели петухи,
Весна-Красна спускается на землю...
Зрители перевели дух и улыбнулись, приветствуя и принимая сказку.
Через четыре года в Москве, в Частной опере Саввы Мамонтова была поставлена опера Римского-Корсакова «Снегурочка». Эскизы декораций и костюмов выполнил Васнецов, создав изумительную галерею древнего русского народа, во всем его чудесном и красивом облике.
Спустя полвека, художник Грабарь скажет: «Рисунки к «Снегурочке», находящиеся в Третьяковской галерее, в смысле проникновенности и чутья русского духа, не превзойдены до сих пор, несмотря на то, что целых полстолетия отделяет их от наших дней».
Постановка имела исключительный успех у московской публики. А милый образ Снегурочки еще много лет не покидал Васнецова.
В 1899 году он изобразил ее на опушке леса. Чуткая ночная тишина вокруг, слышно, как позванивают березки обледенелыми веточками. Под горой река, а за ней — огни Берендеева посада. Манят Снегурочку эти огни, хочется к людям, но. словно чувствуя, что ей суждено погибнуть, не вернуться в свои холодные края, она прощается и со снегами, и с елочками; и сама она, как елочка в пышной шубке, украшенной тончайшими узорами.
И столько в ней естественного, застенчивого, что. поистине — это образ России, жемчужины на земном пространстве, где «тысячи переливов, звуков нежных, неброских, но завораживающих настолько, что не отвести глаз».
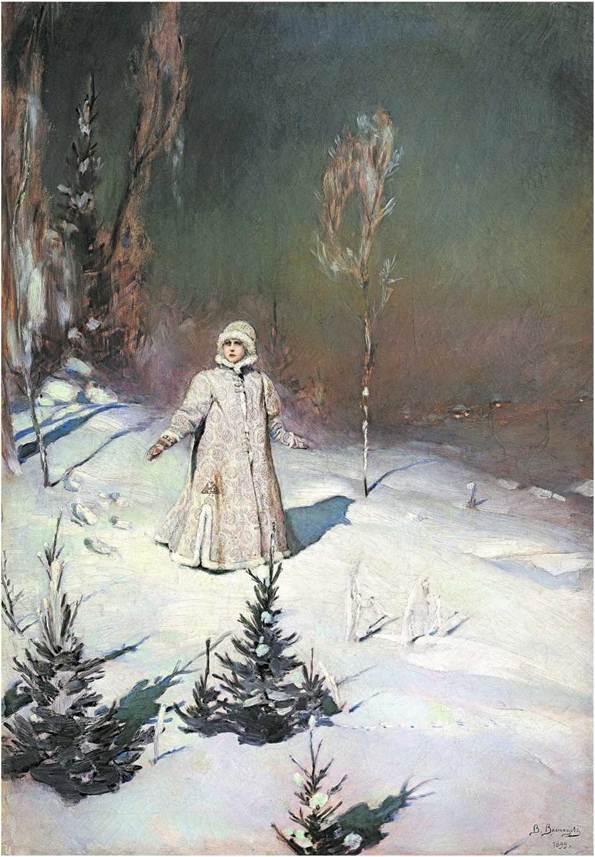 |
ИВАН-ЦАРЕВИЧ НА СЕРОМ ВОЛКЕ
С племянницы Саввы Мамонтова Васнецов написал этюд к будущей картине «Иван-царевич на сером волке». Но непосредственно приступил к полотну лишь через несколько лет, уже работая в Киеве над росписью Владимирского собора.
Виктор Михайлович считал работу в соборе главным делом своей жизни и любил повторять, что «нет на Руси для русского художника святее и плодотворнее дела, как украшение храма». Хотя не сразу принял приглашение Киева. Знал, какие сложности предстоят. Ведь даже расписывая церковь в Абрамцеве, он измучился в поисках образа Богородицы, пока этот образ сам не явился к нему: жена стояла на ступенях веранды, а маленький сын у нее на руках доверчиво потянулся к веткам цветущей черемухи!
Художник представил этот образ в огромном Владимирском соборе, — теплый, искренний, смелый. И — решился. Отправил в Киев телеграмму о своем согласии.
Когда приехал и представил там эскизы алтарного образа Богоматери, ответственный за внутреннюю отделку собора Адриан Прахов извлек и показал Васнецову сделанный когда-то набросок проступившего на штукатурке изображения. Сходство этих зарисовок и собственных эскизов, сделанных с жены и сына, настолько поразило художника, что он утратил дар речи. Через несколько минут с расстановкой произнес:
— Это был заказ Божий.
В общей сложности Виктор Михайлович выполнил в соборе пятнадцать композиций и тридцать отдельных фигур, не считая медальонов. Это четыре тысячи квадратных метров! Десять лет упорного труда. Грандиозная работа Васнецова не имела аналогов в русском искусстве XIX века, и стала самым значительным в жизни художника монументально-декоративным свершением.
Несколько раз от усталости он едва не срывался с лесов, что могло стоить ему жизни. Но Матерь Божия, судя по всему, оберегала его. Работа была напряженной, с огромной затратой духовных и душевных сил, и художник, давая себе передышку, изредка брался за другое занятие, где можно отдохнуть и пофантазировать кистью. Так появилась картина «Иван-царевич на сером волке». Для образа Елены Прекрасной Васнецов использовал готовый этюд с Натальи Анатольевны Мамонтовой.
Виктор Михайлович выбрал для картины самый драматический момент повествования, когда волк, выручая Ивана-царевича, похищает Елену Прекрасную, и все вместе они спасаются от погони. Елена, еще не опомнившись от пережитого потрясения, бледная, доверчиво прильнула к царевичу. Природа вторит тревожному настроению беглецов: великаны-деревья насторожились, тьма, болота, мхи. Но юная яблонька на переднем плане усыпана бело-розовыми цветами!
|
|
Картина была написана быстро, на едином порыве, легко. Виктор Михайлович смело соединил несоединимое — заповедный дремучий лес и цветущую яблоню, указав этим на византийскую красоту Ивана-царевича и его суженой. Особенно пленительной получилась Елена — в своем великолепном царственном убранстве. Изящество, благородство, очарование сквозит в ее чудесном образе. Васнецов выступил как блестящий колорист и тонкий психолог.
Картина была показана в Москве на очередной передвижной выставке, и Мамонтов горячо высказал Васнецову: «Все это мое, родное, хорошее. Вот где поэзия!.. Молодец!» А те, кто не понял сказочной условности, обвинили художника в неправдоподобии. Виктор Михайлович не принял хулы близко к сердцу, он был захвачен поэзией национальной красоты, выражение которой считал возможным находить и в высоких образах русской истории, и в сказочных персонажах.
ТРИ БОГАТЫРЯ
Муром. Былинное сердце России. Первые поселенцы обосновались здесь в 862 году, были очень привержены своим славянским богам, и когда князь Глеб пришел в Муром с христианской миссией, они убили его. Однако в сложные для русской земли моменты, муромцы отбрасывали все свои пристрастия и неприязни и шли сражаться против врага вместе с христианами.
Не для ради князя Владимира,
Не для ради княгини Апраксии,
А для бедных вдов и малых детей
Я иду служить...
Не скакать ворогам по нашей земле,
Не топтать на конях землю русскую,
Не затмить им солнце наше красное!
В мирное же время муромцы оставались непокорными, признавая только Перуна, Даждь-бога, Ярилу, жреца Богомила, который тридцать лет сидел на тридцати дубах Соловьем-разбойником, и прочих славянских богов.
Ни одно русское княжество не создало столько былин, как Муромо-Рязанское. Много в них особенного, выпуклого, поэтичного. В городах и деревнях из уст в уста передавались муромские былины о подвигах богатырей Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича и других. Муромские богатыри стали любимыми героями русского народа, поскольку славны не только физической силой, но и пониманием другой силы — добрососедства.
Мысль написать «Богатырей» появилась у Васнецова в 1867 году, то есть, в тот самый год, когда он с шестьюдесятью рублями в кармане, но с огромным желанием учиться в Академии художеств, приехал из Вятки в Петербург, где первое время только и делал, что справлялся с нуждой. Питался одной буханкой хлеба в день, и чем бы кончилась такая жизнь, не известно, да на счастье, встретил брата своего учителя, с которым познакомился, когда тот приезжал в Вятку. Он взял Васнецова к себе на квартиру, помог найти работу и посоветовал поступить в Рисовальную школу, где по воскресениям преподавал Крамской.
В это сложное для Васнецова время, как спасительная доска над бурлящим потоком, являлось детство: отчий дом, родители, братья, стряпуха, рассказывающая былины и сказки при свете свечи: «Муромец — сила, Попович — святость, Добрыня — доброта. Охраняют они землю русскую, и никакой ворог их одолеть не может!»
Вскоре Васнецов поступил в Академию художеств. Учеба, работа, творческие поиски, удачи и неудачи, участие в Передвижных художественных выставках, поездка во Францию, — вот и минуло чуть не пятнадцать лет. Но все эти года не покидала мысль о «Богатырях». В Париже, когда мечталось о России, сделал небольшой эскиз картины, показав художнику Поленову. Поленов пришел в восторг, и Васнецов решил подарить ему этот эскиз, но Василий Дмитриевич отказался:
— Нет, не возьму. Впрочем. возьму, но после того, как вы напишете картину.
Однако картина «Три богатыря» была написана только в 1898 году.
Россия. Спокойное могущество. Ей нечего бояться, она велика и не мстительна. Богатыри — ее застава. Они грозны для врага, но приветливы для друга. Их копья никогда не обратятся на беззащитного, их кони никогда не будут топтать мирные поля. В картине — высшая правда и высший человеческий закон.
На выставке к «Богатырям» было не протиснуться. Зрителям казалось, что этим богатырям тысячи лет, что они родились вместе с Россией. Все, кто смотрел на картину, видели незыблемость своей земли. Сколько невзгод, войн, жутких лет знала эта земля, сколько пожарищ. но она стоит, и будет стоять, потому что ни одна другая не рождала таких богатырей, ни один народ не имеет в своей основе такую духовную крепость.
|
|
Васнецова стали называть историком, но он возражал: «Я не историк, я — сказочник, былинник, гусляр живописи. «Богатыри» мои не историческая картина, а только живописно-былинное сказание о том, что лелеял в своих грезах мой народ».
Лев Николаевич Толстой, увидев «Богатырей» был поражен:
— Я никогда не задумывался, какими в жизни были наши богатыри, но, увидев картину, подумал, что именно такими и были защитники родной земли и никакими другими, в представлении народа, быть не могли.
Был поражен и Федор Иванович Шаляпин:
— Выходят из вятских лесов и появляются на удивление изнеженных столиц люди, как бы из самой древней скифской почвы выделанные. Как духовно прозрачен при всей своей массивности Васнецов! Его богатыри, воскрешающие самую атмосферу древней Руси, вселили в меня ощущение великой мощи — физической и духовной.
В истории русской живописи «Богатыри» занимают одно из самых первейших мест. Язык этой картины-баллады прост, величав, могуч, его прочтет каждый русский с гордостью, каждый иностранец с опаской, если он враг; и с чувством спокойной веры в такую мощь — если он друг.
Михаил Александрович Врубель (1856 – 1910)
 |
ГАДАЛКА
О своем друге Михаиле Врубеле, художник Коровин писал: «Сиротой жизни был этот дивный философ-художник, больше чем кто-либо изведавший, что такое «людское непонимание». Он не видел похвал, не видел, что творчество его кому-нибудь нужно. Он предлагал себя, свои богатства, он готов был одарить людей храмами и дворцами, он ничего не просил за это; он молил только, чтобы ему давали выявляться, чтобы освобождали его от бремени вдохновения. Но он был гоним, гоним злобно. Пресса отличалась в первых рядах: уничтожить, растоптать этот чудный дар, не дать ему жить! Михаил Александрович кротко сносил удары. Душа его была чиста, как кристалл. У него не было ни злобы, ни мелкости. Но как часто бывали горьки его глаза!»
Не известно, чем бы все кончилось, не попади Врубель под крыло Саввы Мамонтова. Савва Иванович дал возможность художнику творить беспрепятственно, предоставил в полное распоряжение керамическую мастерскую, поскольку Врубель занимался майоликой. Михаил Александрович долгое время не только работал, но и жил у Мамонтова. Трудился как скульптор, дизайнер, монументалист, театральный декоратор, оформлял интерьеры особняков московских меценатов и буржуа.
Ни с одним художником Мамонтов не носился так, как с Врубелем. В 1886 году для Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде, по заказу Мамонтова, который был ее художественным руководителем, Врубель написал две картины: «Микула Селянинович» и «Принцесса Греза» — самое монументальное и самое скандальное свое творение. Панно «Принцесса Греза» размером семьдесят квадратных метров должно было украсить торец одного из павильонов. Однако специально присланная из Петербурга комиссия Академии художеств забраковала и «Грезу» и «Микулу Селяниновича» -- как «нехудожественные». Возмущённый таким решением Мамонтов сам заплатил Врубелю стоимость работы, арендовал за пределами территории выставки участок, на котором в кратчайший срок возвёл еще один павильон, самый большой, и на фасаде распорядился написать огромными буквами: «Выставка декоративных панно художника М.А. Врубеля, забракованных жюри Императорской Академии художеств».
Благодаря свободному входу и шумихе в прессе, подогревающей любопытство публики, павильон стал самым популярным. Однако общественность, хотя и заинтересовалась творчеством художника, не спешила высказывать одобрение. «Что за озлобленная ругань и ненависть, и проклятия сыпались на бедную голову Михаила Александровича! Я поражался, почему это, что, в чём дело, почему возбуждают ненависть эти чудные невинные произведения? Я не мог разгадать, но что-то звериное в сердце зрителей чувствовалось», -- вспоминал Коровин.
Тем не менее, Врубель стал популярной фигурой в художественном мире. А Мамонтов увековечил «Принцессу Грёзу», поместив её на фасаде гостиницы «Метрополь».
В Москве у Мамонтова была Частная опера. Сколько прекрасных спектаклей было поставлено на сцене его театра! Благодаря невысокой цене на билеты патронируемое Мамонтовым русское оперное искусство стало популярным среди самых разных сословий Москвы. То, что высокомерно отвергала Императорская сцена, ставил Мамонтов.
Здесь, в Частной опере, Врубель впервые услышал «Кармен». Потрясла тема гадания! В этой трагической мелодии было всё: неотвратимость рока, фатальность случайностей, мистика. Мгновенно вспомнился «Очарованный странник» Лескова, цыганка Груша—красавица, певунья, за обладание которой мелкопоместный князек заплатил табору пятьдесят тысяч.
Михаил Александрович прямо из театра примчался в мастерскую, и на готовом почти портрете Мамонтова, лихорадочно счистив краски, написал свою изумительную цыганку-гадалку. Ту самую, которой князенька тешился так недолго, — прискучила. «Иль играть хочешь ты моей львиной душой и всю власть красоты испытать над собой?..» — не понимала Груша. Князь неделями где-то пропадал, а она ждала его, разубрана в шелка и золото, среди ковров персидских. Гадала: где любимый? Слухи доходили нехорошие, плакала по ночам. «Любил меня, на руках носил, на коленях стоял передо мной, когда я пела. Любил, ничего не жалел, пока не был сам мне по сердцу. А полюбила -- покинул! Нет, не греть солнцу зимой против летнего, не видать тебе, злодею, любви против той, как я любила!..»
|
|
С картины, проникая в самую душу, глядит темными, блестящими глазами молодая женщина. Чернобровая, смуглая, со странным и привлекательным лицом. Розовая шаль наброшена на плечи, тонкие руки украшены браслетами. На ковре перед ней раскрыты карты. Впереди лежит туз пик. Удивительно переплетается орнамент настенного ковра со складками розовой шали, с небрежно разбросанной колодой карт. Что-то должно свершиться, картина очень сильна этим предчувствием.
Оно и свершилось — у Лескова. Князь обманул Грушу, увез на далекую пасеку.
— Здесь будешь жить.
Плакала, руки его целовала, чтобы не бросал, пожалел. Но он толкнул ее прочь и уехал.
Хотела уйти цыганка, но стерегли девки-однодворки. И все же обхитрила их. Прибежала к преданному другу:
— Пожалей меня, брат родной, ударь ножом против сердца!
Не смог он ударить Грушу, за которую не пожалел бы своей жизни. Но в реку — столкнул. И бежал с того места, себя не помня.
Цыгане народ необычный, неразгаданный. Они то размашисты в своих чувствах, то в них глубокий надрыв и тоска. Но цыганское пламя случается и не в цыганской душе. Врубель вполне познал эту стихию, сгорая в пламени своего гения. И так же, как Груша, знал наперед свою участь. Знал, что случайностей не бывает, что «случайности» уже где-то «числятся» за тобой, стерегут тебя, уже определены тебе...
Гениально раскрыв внутренний мир «действующего лица», подчинив разбросанные на картине детали в одно гармоническое целое, Врубель особенно выделил глаза, словно давая понять, что глаза цыганки — это и его глаза, глаза художника, которые видят свое полное драматизма будущее.
ДЕВОЧКА НА ФОНЕ ПЕРСИДСКОГО КОВРА
Михаил Александрович был совершенно неприспособлен к жизни. Мог питаться одним только хлебом, мог за вечер спустить сумасшедшие деньги. Получив однажды пять тысяч рублей за исполнение крупного заказа в Москве, устроил обед в гостинице «Париж», где проживал в ту пору. Пригласил постояльцев гостиницы, персонал, гитаристов, цыган, военных, оркестр. Столы ломились от яств и бутылок!
— Посмотрите, как нам хорошо! — улыбался художник.
Этот обед стоил ему более пяти тысяч, и чтобы за него расплатиться, пришлось потом напряженно работать два месяца.
В 1886 году, участвуя в росписи Владимирского собора в Киеве и привычно нуждаясь в деньгах, Михаил Александрович обратился к владельцу ссудной кассы. Понимая, что возвратить долг художнику будет трудно, тот попросил написать портрет его дочери. Владелец представлял, что портрет будет, как обычно пишут портреты. Но ведь это был Врубель! Своенравный порывистый Врубель, которому надоели «скучные песни земли».
|
|
О, как написал Михаил Александрович девочку! В какие парчовые наряды одел ее! Какими коврами бархатными окружил, одарил украшениями бесценными, и даже царицей-розой, подчеркнув и царственность девочки, хоть была она из обычной еврейской семьи. Он сделал девочку героиней восточной легенды, закидав ее драгоценностями, парчой и бархатом. Роза почти падает из ее детской руки, отягощенной перстнями.
Врубель был олицетворением страстной жажды красоты в жизни и в искусстве. Он был романтиком, ему просто необходимо было в мире такое, от чего замирает душа, что увлекает все твое существо. «Девочка на фоне персидского ковра» — рассказ языком живописи о древнем восточном обычае выбирать любовь или смерть. У девочки в левой руке кинжал. Роза и кинжал. Любовь и смерть.
В юности Михаил Александрович увлекался минералогией. Камни раскрывали ему особый мир, мир фантастических богатств, о каких пишут в сказках про подземные царства. Работая над портретом девочки, Врубель превращал краски в «кристаллы», подбирая их, как ювелир, и картина казалась сложенной из драгоценных камней.
Увы, кроме близких друзей художника, оценить эту чудо-картину оказалось некому. Да вот еще отец девочки, как-то угадав, что художник сотворил нечто необыкновенное, повесил портрет на самом видном месте в доме.
Ценители же искусства лишь спустя многие годы признали «Девочку на фоне персидского ковра» величайшим шедевром. И картина украсила собой Музей русского искусства в Киеве.
ПАН
Михаил Александрович Врубель был одним из самых просвещенных людей своего времени, говорил на восьми языках, окончил Петербургский университет — два факультета, и Академию художеств. Опираясь на знания мифов, легенд, былин, он создавал свой собственный поэтический мир, полный торжествующей красоты и вместе с тем тревожной таинственности, мир с земною тоской и человеческими страданиями.
Таков его «Пан». Отец Пана, Гермес, первоначально был богом скотоводства, покровителем пастухов. Он первым стал требовать от людей огненных жертв, научив высекать огонь на алтаре. Кроме того, Гермес сопровождал души умрших в ад, где шел праведный суд над грешниками. Но Гермес ко всему, был ещё плутом. Так однажды он украл у Аполлона стадо коров, а когда Аполлон изобрел сладкозвучную лиру, выменял у него лиру на это стадо.
Матерью Пана была нимфа Дриопа -- дева из многочисленного семейства божеств. Святилища нимф находились в гротах, лесах, пещерах. И хотя их места обитания были вдали от Олимпа -- от верховных богов, -- нимфы часто посещали его. Они вели беспечальную жизнь: пели, играли, умели предсказывать будущее, исцелять раны и вдохновлять поэтов. Умирали нимфы вместе с деревом, ручьем, полем, озером, цветком. с которым они родились и жили единой жизнью.
Когда у красавицы Дриопы родился сын -- волосатый с козлиными ногами и рожками на голове -- она пришла в ужас, она бросила ребенка! Да и какая мать вынесла бы такое чудище: кроме копыт и рожек, у младенца был еще хвост, кривой нос и козлиная борода! Но Гермес подхватил сына и унес на Олимп. Мальчик был очень смешон и видом своим понравился богам. К тому же он оказался веселым и ему дали имя Пан -- «понравившийся всем».
Пан стал, как и его отец, покровителем пастухов. Однако Пан был легкомысленным богом, он не столько следил за своими подопечными, сколько развлекался с нимфами. Иногда ему хотелось побыть наедине, и тех, кто нарушал его покой, он наказывал, нагоняя внезапный и сильный страх.
Случилось, что Пан влюбился в нимфу Сирингу. Он буквально преследовал красавицу своей любовью! Бедная Сиринга от его домогательств кинулась в реку, став тростником. В скорби, Пан вырезал из тростника свирель, и так нежно играл на ней, что музыка, казалось, лилась с самого неба.
Бобылем Пан не остался, женился. Но это уж так, чтобы род продлить... А любовь — она навсегда канула в реку вместе с Сирингой...
На картине Врубеля Пан изображен в тот момент, когда уже поиграл на своей дудке и задумался о житье-бытье. Любил ведь! Зачем Сиринга тростником стала? Жили бы в мире-согласии — оба веселые. Что же, что он внешностью не удался?.. Эх, нимфа, нимфа, ничего ты не поняла!
Михаил Александрович изобразил Пана по-своему. Мифический Пан у него больше походит на русского лешего с круглой физиономией и васильковыми, безмятежными глазами: хитрец и лукавец. Добродушные глаза Пана вопросительно глядят на мир. Древний, как природа, причудливый... И лес вокруг таинственный, предвечерний, когда рождаются образы и видения самые разные — то светлые, грустно-нежные, то пугающие, настораживающие.
В «Пана» Врубель вложил много и своего. Как и Пан, он был страстно влюблен, но та, которую он любил, не любила его. Нет, скорее любила, но многое мешало её пониманию Михаила Александровича. Он очень страдал от невозможности объяснить ей это мешающее.
|
|
Русская общественность «Пана» не поняла. Картину окружили пошлыми смешками. Михаил Александрович держался стоически:
— Ваше отрицание меня дает мне веру в себя.
Знаменитый «Пан» был куплен всего за 200 рублей — цена ужина в столичном ресторане. А немногим позже предприимчивый владелец продал его в Третьяковскую галерею за 5000 рублей!
ЦАРЕВНА-ЛЕБЕДЬ
В опере «Сказка о царе Салтане», поставленной в 1900 году в Москве на сцене мамонтовского театра, партию Царевны-Лебеди пела Надежда Ивановна Забела — жена Врубеля. А Михаил Александрович создал эскизы костюмов и декораций. Премьера состоялась 21 декабря. Незабываемый образ пушкинской царевны создала Надежда Ивановна, и в этом была заслуга не только ее, — дарование певицы формировалось при самом непосредственном участии Врубеля. Они обогащали друг друга, дополняли друг друга: искусство Забелы и творчество Врубеля были нерушимо связаны между собой.
После премьеры была выпущена серия открыток с изображением Царевны-Лебеди, и эти открытки послужили Врубелю поводом к написанию картины «Царевна-Лебедь». Композицию картины он построил так, что создавалось впечатление, будто зритель заглянул в сказочный мир, где внезапно появляется и вот-вот исчезнет волшебная девушка-птица, плывущая к далекому таинственному берегу. Последние лучи солнца играют на белоснежном оперении, переливаясь радужными красками, мерцают бирюзовые, голубые, изумрудные самоцветные камни узорчатого венца-кокошника, и мнится, что это трепетное сияние сливается с отблеском зари на гребнях морских волн.
«Царевна-Лебедь» — один из самых пленительных, задушевных женских образов, созданных Врубелем. «Не сама ли это Дева-Обида, что, по слову древней поэмы, плещет лебедиными крылами на синем море перед днями великих бедствий?» — говорили о ней те, кто видел картину. Действительно, происхождение «Царевны-Лебеди» было скорее от Девы-Обиды «Слова о полку Игореве», чем от героини пушкинской «Сказки о царе Салтане» или оперы Римского-Корсакова на этот сюжет. У Пушкина и Римского-Корсакова Царевна-Лебедь дневная, светлая. Царевич Гвидон спас ее от злого колдуна, она стала женой Гвидона, и все устроилось к общему счастью.
У Врубеля Лебедь вряд ли будет женой человека. Это видно из настроения картины: сумерки, багряная полоса заката и какие-то недобрые огни далекого города. Царевна не приближается к зрителю, она уплывает во тьму, и только в последний раз обернулась — сделать какое-то предостережение. Взгляд Лебеди — прощальный взгляд. Огромные глаза полны грусти и доброты. Вокруг сгущается темень, и только Лебедь сверкает в последнем луче. В картине очень сильно чувство тревоги.
Каким же надо было обладать даром, чтобы воплотить этот чистый и целомудренный облик в картину! «Крылья — это родная почва и жизнь», — пояснял Михаил Александрович.
|
|
И восклицал: «Сколько у нас красоты на Руси!.. И знаете, что стоит во главе этой красоты? Форма, которая создана природой вовек». Врубель уверял, что русская природа без всяких оглядок на международный кодекс эстетики, бесконечно дорога потому, что она носительница души, которая тебе одному откроется и расскажет тебе твою душу.
Так осознавать глубинную сокровенность России, было дано очень немногим.
ДЕМОН
«Именно в черном воздухе ада находится художник, прозревающий иные миры... Проклятую песенную легенду создал о Демоне Лермонтов, слетевший в пропасть к подошве Машука, сраженный свинцом. Проклятую цветную легенду о Демоне создал Врубель, расплатившись преждевременной смертью», — писал Александр Блок.
Лермонтовым и Врубелем владело одно:
Устал я видеть честь поверженной во прах,
Заслугу в рубище, свободу искаженной,
И бедность с шутовской усмешкой на губах...
Опальных мудрецов, носящих скорбь в тиши —
Высокий дар небес, осмеянный слепцами,
И силу, мертвую от немощей души,
Искусство робкое пред деспотизмом власти,
Бездумья жалкого надменное чело,
Разнузданную ложь, разнузданные страсти
И Благо пленником у властелина Зло.
Одиночество, неустанная борьба с миром равнодушных людей, но. необъятное воображение поэта создавало трагический образ, несущий «весть о том, что в сине-лиловую мировую ночь вкраплено золото».
Демон у Лермонтова — мятежный ангел. За своенравие Господь изгнал его из рая. Мятежный дух Демона познал тайны мироздания и достиг абсолютной свободы — полной независимости ни от кого и ни от чего. Однако наступил момент, когда он задумался: зачем достигалось все это? Ему ничего не надо, он одинаково презирает добро и зло, равнодушен к земле и небу.
С тех пор отверженный блуждал
В пустыне мира без приюта.
Вослед за веком век бежал,
Как за минутою минута,
Однообразной чередой.
Но вот случилось, что Демон полюбил! Грузинскую княжну Тамару. Его душа открылась для добра, он поверил, что любовь сможет сделать его вновь безгрешным, что он сумеет осуществить возможности, заключенные в его натуре: свести вместе «все, все земное» с красотой, многоцветностью и полнотой природы.
Увы, любовь Демона принесла Тамаре смерть. И даже на кладбище, когда он хотел овладеть душой девушки, его опередил посланец рая.
Предвидело ли пророческое сердце Лермонтова, что найдется другое сердце, которое будет биться в унисон с ним?
Еще живя в Киеве, Врубель задумал «Демона сидящего» — образ грозного ангела с израненной человеческой душой, страдающей от несовершенства мира. Но окончил это полотно лишь через десять лет, в Абрамцеве.
На картине «Демон сидящий» — далекая золотая заря за колючими скалами. В багрово-сизом небе расцветают чудо кристаллы неведомых цветов. Отблески заката мерцают в глазах молодого гиганта. Демон сидит, задумавшись. Он познал много, отвергнул еще больше. Одинокий, в себе, и некуда приткнуть голову. Ни непомерные по мощи объемы торса, ни вздутые в страшном напряжении мышцы рук, ни саженный разлет плеч — ничто не может скрыть бессилия и тоски юного титана.
Эта картина не имеет аналогов во всей мировой истории живописи по странным сочетаниям холодных и теплых колеров, напоминающих самородки. Это грандиозная мистерия цвета! Тлеющие багровые, рдяные, фиолетовые, пурпурно-золотые тона как будто рисуют рождение планетарно иного мира.
Вслед за «Демоном сидящим» Врубель создал «Демона летящего». Распростерты крылья. Лицо запрокинуто. В Демоне — суровая решимость продолжать борьбу. Он всё так же прекрасен, но всё в нем заострено.
В 1902 году появляется «Демон поверженный». Разбилось о скалы юное тело. Глаза горят дикой злобой, руки в страданиях сомкнулись над головой.
Врубель создавал своих «Демонов» в страшных муках. Писал неистово, целыми днями, забывая про отдых. Он пропитал свои картины всей силой гнева против мира, где высокий дар осмеивается слепцами, заслуга в рубище, а Благо пленником у властелина Зло!
Сорок раз переписывал голову падшего ангела. Не счесть количества эскизов, зарисовок, набросков. Врубель был одержим своей идеей!
И его тонкая, ранимая душа не выдержала, надломилась. Психиатрическая больница. Редкие вспышки сознания, когда он бежал к своей картине «Демон поверженный», подправляя, переделывая.
|
|
Картина уже находилась в галерее, и Врубель своим появлением пугал публику. Возникло даже предубеждение, что он продал свою душу дьяволу.
«Не понимают Демона, — отчаивался художник, — путают с чертом и дьяволом, тогда как «черт» по-гречески значит просто «рогатый», а дьявол — «клеветник». «Демон» же — это «душа» и олицетворяет собой вечную борьбу мятущегося человеческого духа, ищущего примирения обуревающих его страстей, познания жизни и не находящего ответа на свои сомнения ни на земле, ни на небе».
«Демоническое» в большой степени присутствовало и в личности Врубеля — как дар гения, как сильнейшей сгусток творческой энергии, ставший наконец неуправляемым.
Вспышки сознания являлись к нему все реже: жизнь художника угасала. Как будто сбывалось молчаливое и печальное предупреждение Царевны- Лебеди.
Искусство Врубеля, совершенно новое, непонятное большинству его современников, принесшее ему столько страданий, все-таки пробило дорогу к людским сердцам. Врубель был признан самым большим лириком XIX века. Но случилось это уже после смерти Михаила Александровича.
Валентин Александрович Серов (1865 – 1911)
 |
ДЕВОЧКА С ПЕРСИКАМИ
Валентин Александрович Серов в детстве совсем не знал домашнего уюта. Его отец, композитор, был целиком занят музыкой, а юная матушка больше общалась со своими друзьями, нежели с сыном. Они приходили в квартиру Серовых небрежно одетые, много и громко говорили, много курили и вообще вели себя бесцеремонно.
Тоше Серову исполнилось шесть лет, когда отец умер. Матушка уехала в Мюнхен оканчивать прерванное замужеством музыкальное образование, а сына отправила к приятельнице на хутор. На хуторе была организована земледельческая интеллигентская коммуна с не совсем понятной целью, но предположительно участники ее, шестеро взрослых и один ребенок — Тоша Серов, должны были стать пионерами будущего. Мужчины и женщины носили одинаковую одежду, ели одинаковую пищу, купались тоже все вместе — стыд полагался несуществующим. Были установлены строгие трудовые обязанности, в том числе и по дому. Тоше вручили липкую от жира тряпицу, и он мыл посуду.
Обнаружив у Тоши склонности к рисованию, ему купили краски: человек будущего должен быть гармоничным. Но когда, увлекшись рисованием лошадок и оленей, ребенок забыл о посуде, у него изорвали рисунки.
Тоша возненавидел коммуну! На его счастье, через год она развалилась.
Мать забрала его в Мюльталь. Оставила Тошу на попечение художника Кёппинга, а сама уехала в Рим. Потом Тоша Серов жил у Репина, который в ту пору находился в Париже. Потом матушке захотелось назад в Россию.
В России десятилетнего сына она привезла в Абрамцево к Мамонтовым, с которыми познакомилась за границей. Семья Мамонтовых была доброй, к Тоше отнеслись как к родному, и скоро их дом стал домом Серова. Он жил там месяцами. Он там озорничал вместе с молодыми Мамонтовыми и даже больше их. Болел очень опасно и очень долго, и Елизавета Григорьевна Мамонтова ухаживала за ним, лишившись сна, так, как если бы это был ее родной сын. Через много лет, когда Елизавета Григорьевна умерла, Серов, этот суровый человек, исступленно рыдал над ее могилой. Он переживал ее смерть острее, чем ее дети. И, не любивший позы и фразы, он впервые сказал тогда: «Смерть любимого человека железным обручем сжимает голову».
Серов хорошо рисовал: Илья Ефимович Репин много вложил в него и многому обучил. В 1880 году пятнадцатилетний Валентин Серов поступил в Академию художеств, в класс профессора Чистякова, через руки которого прошли Суриков, Репин, Врубель, Поленов и многие другие русские живописцы. Чистяковская педагогическая манера была довольно жестока: он воочию умудрялся доказать ученикам их бессилие перед натурой, заставлял рисовать детские кубики, подвергая насмешливой беспощадной критике каждый неточный штрих. Валентин Серов беспрекословно подчинялся Чистякову — его мнение было для него законом.
В 1887 году Валентин Александрович побывал в Италии, откуда писал Елизавете Григорьевне Мамонтовой: «Да, есть что посмотреть, — нет, вернее, изучать; посмотреть — этого мало».
Переполненный впечатлениями, вернувшись в Москву, он прямо с поезда помчался в Абрамцево. Он словно боялся растерять где-то по пути, охватившую его жажду работать. Такого творческого порыва Серов еще никогда не испытывал.
Случилось, что после обеда в Абрамцеве, когда хозяева разошлись по другим комнатам, в столовой остались только Верочка Мамонтова и Валентин Александрович. Веруша болтала о каких-то пустяках — они были большими друзьями: двенадцатилетняя девочка и хмурый художник. Впрочем, в обществе Веры и ее сестры Серов никогда не был хмурым, он мог носиться с ними по саду, затевать проказы и забавы, он был их любимцем.
Валентин Александрович молча слушал Верочкину болтовню, и вдруг сказал ей, что хочет написать ее портрет.
|
|
Вера не соглашалась: она знала, как долго художники пишут портреты. Но Серов настаивал, хотя все зависело от Веры — она имела диктаторскую власть, её «я хочу», «я не хочу» было для всех законом.
Больше двух месяцев писал Серов портрет Веры Мамонтовой, мучился, что заставляет девочку отрываться от игр. Портрет был закончен только в начале сентября.
За окнами осень. Первый осенний холодок, а в комнате — все еще лето: румяные персики, и обаятельная девочка с летним загаром на щеках. Кажется, она только что вбежала в комнату и, едва переведя дыхание, уселась за стол, чтобы милый Антоша окончил, наконец, ее портрет. Она и не подозревает, с каким трепетом много лет спустя сотни, тысячи людей будут смотреть на нее и на ее скатерть — удивительную скатерть Верочкиной работы, на которой расписывались величайшие люди России, а Веруша потом вышивала эти автографы шелком.
Портрет Верочки — «Девочка с персиками» — привел в восторг всех, кто жил в то время в Абрамцеве. Это было невероятно, почти волшебство! Конечно, никто не сомневался в художественном даровании Серова, но такой взлет!..
Когда у художника спрашивали, как это произошло, он только пожимал плечами: «Следовал натуре, не мудрствуя лукаво». Он отказался от схем, прививаемых Академией; более того, пошел наперекор, не замыкая мир в рамках картины. Впервые — свет из-за спины, впервые — поза, в какой никогда не сажали художники позирующего человека, впервые — обстановка выхвачена из комнаты, даже из двух, а не расставлена преднамеренно. И получилось естественно, жизненно и свежо.
Картина была выставлена в Москве.
Художник Нестеров написал своей сестре, делясь впечатлением: «Из картин и портретов на выставке самый значительный — это портрет, писанный Серовым с Верушки Мамонтовой. Вышла чудная вещь, которая в Париже сделала бы имя художника очень известным, но у нас подобное явление немыслимо: примут за помешанного и уберут с выставки — настолько это ново и оригинально».
И все-таки именно с этой картины началась слава Валентина Александровича Серова, как художника-портретиста. Именно с этой картины он почувствовал силу своего дара. Он понял, что нашел главное для себя — равновесие между двумя началами искусства: эмоциональным и интеллектуальным, между сердцем и умом, — ту линию, которая являет собой полную гармонию этих двух начал.
ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА К. А. КОРОВИНА
Константин Алексеевич Коровин был удивительный человек: легкий на подъем, влюбленный в жизнь, безалаберный и безумно талантливый.
«Более симпатичного, более русского человека со всеми его достоинствами и недостатками, я не знаю», — говорил о нем князь Щербатов. Внешний вид Константина Коровина порой изумлял окружающих. Белая рубашка лезла куда- то к горлу, собираясь в «жабо», и Серов прозвал его «пажем Медичи».
|
|
В Москве у них была общая мастерская, они не мешали друг другу, только изредка Серов делал замечания Коровину, и Константин Алексеевич чутко к ним прислушивался: художественный вкус его друга был безупречен.
Коровин писал декорации для Частной оперы Мамонтова, и, казалось, попутно, не придавая большого значения, писал яркие впечатляющие картины. Как декоратор, он был нов, оригинален, нажил себе немало врагов среди художников и артистов, но Савва Мамонтов очень ценил его дар. Для постановки «Кармен» он отправил Коровина в Испанию, убежденный, что только он сумеет уловить тот особый национальный нюанс, который так завораживает в испанцах. Константин Алексеевич вернулся с богатейшим «материалом»! Мамонтов без устали душил его в своих объятиях. А за картину «Испанки у балкона» художник чуть позже получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже.
По заданию Мамонтова Серов и Коровин побывали на русском Севере, навсегда полюбив этот край, где люди и звери не боятся друг друга, где в океане киты выворачивают свои громадные туши, тюлени глядят человеческими глазами, а медведи дружат с насельниками Печенгского монастыря. Из этой поездки они привезли массу рисунков и этюдов. Потом Константин Алексеевич написал свою замечательную картину «Северная идиллия».
Случилось, что художникам пришлось выполнять заказ П. М. Третьякова для церкви его мануфактурной фабрики в Костроме. Религиозная живопись не была близка ни тому, ни другому, и «Христос, идущий по водам» получался так, словно шел по паркету гостиной. Но тут помог Михаил Александрович Врубель, тоже работавший в их мастерской. Схватил лист картона, за полчаса акварелью написал Христа, и так написал, как будто он долгие месяцы обдумывал идею, композицию и все детали этой вещи. Акварель получилась великолепной! Оба художника были изумлены и подавлены тем, что произошло на их глазах. Серов потом говорил: «Врубель шел впереди всех, и до него было не достать».
«Христос, идущий по водам» был окончен. Окончен блестяще.
Вскоре Константин Алексеевич и Валентин Александрович поехали на этюды во Владимирскую губернию. Без всякого плана передвигались с места на место, жили то в маленьких городках, то в селах. Коровин писал много, он работал и в дождь и в вёдро. Серов работал медленно, и Константин Алексеевич никак не мог привыкнуть к этому:
— Поглядишь на тебя, так ты прямо мировые проблемы решаешь.
Когда вернулись в Москву, оказалось, что снять общую мастерскую нельзя, все было занято, и нужно искать каждому по отдельности. Беспечный Коровин снял комнату, которая не отапливалась. Зимой в ней было так холодно, что за ночь одеяло становилось как ледяное. Под полом жил мышонок, он выходил из своей норки, кормился с рук веселого художника. В мастерской редко кто наводил порядок, всюду валялись этюды, палитры, кисти и тюбики с красками.
Вот в этой богемной обстановке, столь свойственной характеру Константина Алексеевича, написал Серов его портрет. Написал так, как это мог сделать только тот, кто знал Коровина наизусть. Перед зрителем — умный, красивый, небрежный, лукавый Константин Алексеевич Коровин, душа любой компании, великолепный мастер, кисть которого создала так много солнечных полотен, что его называли Моцартом живописи.
Коровин был неисправимым оптимистом. Когда его спрашивали, какой день в своей жизни он считает лучшим, он, не задумываясь, отвечал:
— Сегодняшний.
ЗИМА В АБРАМЦЕВЕ. ЦЕРКОВЬ
Идея постройки церкви в Абрамцеве принадлежала Елизавете Григорьевне Мамонтовой. Летом 1881 года участники строительства объехали центры древней русской культуры, и «дом наш, — как писала друзьям Елизавета Григорьевна, — принял совсем божественный вид... На всех столах лежат чертежи, увражи. Мой кабинет весь превратился в картинную галерею, всюду этюды с разных церквей и иконостасов.»
Проект абрамцевской церкви создал художник В. Д. Поленов. Прообразом для нее послужил храм Спаса на Нередице в Великом Новгороде, построенный в конце XII века — буквально через два десятилетия после похода князя Игоря Святославича на половцев. Одноглавый, кубической формы храм напоминал древнюю крепость, увенчанную русским шлемом.
Проект дорабатывал В. М. Васнецов, увеличив высоту стен, перенеся северный фасад на место южного, и придав таким образом южному фасаду парадный вид.
Пока шло строительство, отовсюду свозились старинные подсвечники, иконы, лампады, складни, металлические подносы. Появилось многочисленное собрание фигурных скоб, петель, задвижек, ключей и ручек. Супруги Мамонтовы часами стояли на лесах и, как заправские каменотесы, помогали рабочим высекать орнаменты.Все в Абрамцеве жили интересами церкви и общей работы! Василий Дмитриевич Поленов расписывал иконостас, сын Мамонтовых, Андрей, занимался росписью оконных простенков, Виктор Михайлович Васнецов создавал узоры орнаментов, расписывал клиросы; по его же рисункам был выполнен мозаичный пол со стилизованным цветком и датой строительства.
Собранные участниками мамонтовского кружка иконы соседствовали с авторскими произведениями Репина, Васнецова, Поленова, Неврева, Антокольского.
|
|
«Подъем энергии и художественного творчества был необыкновенный: работали все без устали, с соревнованием, бескорыстно.» — оставил воспоминания Поленов.
Валентин Серов не принимал участия в строительстве, он в эти годы учился в Петербурге.
Торжественное освящение церкви Спаса Нерукотворного состоялось в 1882 году. Много хорошего прибавила Абрамцеву эта церковь, тесно связанная с русской жизнью, с русским народом и его самобытным творчеством, с его историей!
Ее и запечатлел Серов на картине «Зима в Абрамцеве». Благодаря присутствию церкви, увенчанной русским шлемом, пейзаж получился одухотворенным, напоминая зрителю о трагическом походе князя Игоря на половцев, когда и мертвые русские воины падали на трупы своих врагов или, умирая, раскидывали широко свои могучие руки, словно желая и мертвым телом защитить родную землю.
«О, стонати Руской земли, помянувше первую годину и первых князей...»
ПЕТР I НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПЕТЕРБУРГА
В 1906 году издательство Кнебель заказало Серову картину из истории Петра Первого. Картина должна была изображать царя на постройке Петербурга. Валентин Александрович принял заказ и сразу же с увлечением приступил к работе: его давно интересовала эта колоритная фигура русской истории.
Серов копался в архивах Эрмитажа, перерисовал все предметы одежды Петра и его восковую маску, выполненную Растрелли и случайно открытую теперь художником Бенуа. Усердно посещал лекции историка Ключевского, от которого узнал, что Петр I был полон противоречий, порой отвратительных: был груб, деспотичен, но искренен; был способен на самую невероятную жестокость и на самое высокое благородство.
Образ Петра двоился в сознании Серова. Как двоился некогда в сознании Пушкина, когда он писал:
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу!
Пушкин прекрасно знал, что Петр-строитель и Петр-зверь были органически слиты в одном лице. Сколько людей было измучено непосильным трудом по вине того, «чьей волей роковой над морем город основался».
Работая над картиной, Серов думал: «Счастье каждого человека это и есть высшая цель, это и есть действительное благополучие всего общества, всей страны. Какое дело тем бедным, согнанным за тысячи верст мужикам, что ценой их жизней и страданий, ценой их рабьего труда покупается будущее величие империи; им и невдомек, что они «прорубают окно в Европу», что «все флаги в гости будут к нам».
Но вот он идет, Петр, город строить! Придворные едва поспевают за ним. Шквальный ветер, а царь будто не замечает. Он не жалеет себя, перед его глазами Россия будущего: прекрасная, мощная, образованная!..
Валентин Александрович решает показать Петра I живым, не приглаживая и не припудривая. Ему обидно, что «благодарные потомки» изображают монарха опереточным красавцем и героем. Какой же красавец, если был непомерного роста — два метра, пятнадцать сантиметров — и на тонких ногах? Какой же герой, если устраивал пытки, на которых присутствовал и часто сам пытал?..
|
|
Но Петр создал российский флот! Петр победил могущественных шведов! Петр упрочил позиции государства и провел великие реформы!..
Да, страшный человек. Но и век был страшный.
В картине «Петр I» Серов оставляет Петра исключительно строителем. Города еще нет. Еще только корабли подвозят лес для свай и камень для домов. Еще на набережной, по которой шагает царь, пасутся коровы, а набережная — это просто земляной вал. Но Петр уже видит этот свой будущий город: дворцы, сады, каналы, гранитные набережные и крепость. И это видение гонит его вперед.
— Воображаю, каким чудищем казался Петр иностранцам — говорил Серов художнику Грабарю.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
Мировая история не знала фигуры, подобной Петру. Он не признавал частного интереса, не совпадающего с общим. Для дела набирал людей любого звания и происхождения, если были умны и усердны. Сек головы высокопоставленным ворам и открыто говорил, что если в кунсткамере собрать не физических, а нравственных уродов, не хватило бы шкафов, и поэтому «пускай шляются во всенародной кунсткамере: между людьми они более приметны».
К концу своего царствования Петр I заботился о собирании и сохранении исторических памятников, спрашивая ученого Феофана Прокоповича: «Когда же мы увидим полную историю России?» Убеждал простых людей учиться и посещать библиотеки, учредив для этого «награду»: рюмку водки и пирожок. Говорил, что «хорошо перенимать у французов науки и художества, но я бы хотел видеть это у себя!»
Но понимал и то, что до предела напрягает народные силы, что торговля падает, а войска терпят страшную нужду.
Художественные критики не все поняли картину «Петр I на строительстве Петербурга», как часто не понимали они и многих портретов Серова. Раздавались голоса, обвинявшие автора в шаржировании образа Петра Великого. Но Серов недаром вживался в этот образ. Напряженный ритм шествия передает силуи напор Петра, и вместе с тем дает ощутить бесчеловечное и страшное начало его движения, за которым не поспевают остальные. Через изображение эпизода истории Серов глубоко раскрыл царя Петра и его эпоху. Безупречно честный в жизни, Валентин Александрович был таким и в искусстве. Выясняя правду, добиваясь справедливости, он готов был идти до конца, ничего не боясь, он был суров и непреклонен. «Все равно», — этого он никогда не знал. Своей работой и своей жизнью Валентин Александрович возвышал и звание художника, и достоинство человека. Царь Петр, представленный на его картине, не потерял своего величия и значимости, но был основательно отскоблен от двухвековых напластований восторгов.
Исаак Ильич Левитан (1860 — 1900)
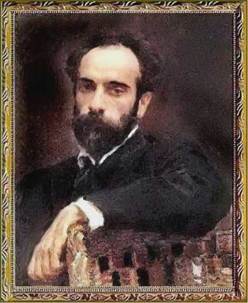
ОСЕННИЙ ДЕНЬ. СОКОЛЬНИКИ
В Московском Училище живописи бедностью удивить было трудно — неимущих студентов хватало. Но бедность Исаака Левитана была несравнима ни с чем. О его в полном смысле бродяжничестве знали все. Порой ему негде было ночевать, он прятался в классе за какой-нибудь мольберт, за штору, чтобы не попасться на глаза сторожу. Сторож Землянкин, прозванный учениками «нечистой силой», обходил на ночь все здание Училища; Левитана, по настроению, он брал либо к себе в каморку и поил чаем, либо выгонял на улицу и захлопывал дверь.
«Не имею никакой возможности внести за право учения.» — обращался Исаак в совет Училища. И часто в галерее Третьякова, где художники копировали полотна, смотрел на «Тройку» Перова так, словно написана эта картина была о нем самом.
Весной Левитана трудно было застать в мастерской. Алексей Кондратьевич Саврасов, обводя глазами своих учеников, спрашивал:
— Где Левитан, давно его нет. Он, очевидно, в Сокольниках.
Возвращаясь из похода, Исаак признавался однокашнику Косте Коровину:
— Как ни пиши, а природа все равно лучше. — И слышалось в его признании неверие в возможность передать на холсте тонкость живого пейзажа.
Случалось, в Сокольники ходили вместе.
— Смотри, — показывал Исаак, — смотри.
Потухала заря, и солнце розовым цветом клало яркие пятна на стволы больших сосен, бросая в лес синие тени.
— Я не могу, как это хорошо! Это — как музыка. Но какая грусть в лучах, в последних лучах! — Левитан плакал.
Коровин не выносил слез.
— Довольно реветь! — прикрикивал на Исаака.
— Костя, я не реву, я рыдаю! — отвечал он.
Коровин любил солнце, цветы, раздолье. Однажды у пригорка, где внизу блестел ручей и цвел шиповник, горя на солнце, предложил другу:
— Давай поклонимся шиповнику, помолимся?
И оба встали на колени.
— Шиповник! — улыбнувшись, начал Левитан.
— Радостью славишь ты солнце, — продолжил Коровин.
— Ты даришь нас красотой весны своей.
— Мы поклоняемся тебе.
Друзья запутались в импровизации, и, посмотрев друг на друга, расхохотались.
На старших курсах, кроме Коровина, товарищем Исаака стал Николай Чехов.
— Я бы расстался даже с любимой женщиной, если она равнодушна к природе, — говорил ему Исаак. — Этот тон, эта синяя дорога, эта тоска в просвете за лесом, это ведь — я! Мой дух!
Левитан часто впадал в меланхолию. Это было от унизительного безденежья, бесприютности и сиротства. Вроде бы, все толкало его на дорожку горя и обиды, но он выбрал иное. Ощущение высшей красоты не позволяло сводить счеты с кем бы то ни было. Все, что замечают в природе люди в минуты душевных волнений, когда рождается потребность выразить это именно так, не отходя ни на полшага от себя, стало его сутью. И у предшественников Левитана, особенно у Саврасова, природа несла человеку свое сердце, но только он делал это так доверчиво, от всей своей нежной сути, так интимно.
В 1879 году Исаак окончил картину «Осенний день. Сокольники». Облачное серое небо, уходящая вдаль дорожка, пожелтелые липки и высокие темные сосны, — одиночество и тоска. Художник ли смотрел на природу или она на него? Может быть, это он отражался в ее широко открытых глазах...
Николай Чехов посоветовал Левитану:
— Пусти по дорожке человека. Мотив одиночества будет подчеркнут. Левитан считал, что и так все понятно. Но Николай настаивал, и художник наконец согласился. Чехов вписал в картину Исаака фигурку женщины в темном платье, картина получилась откровенней.
|
|
Она, пожалуй, самое большое высказывание Левитана о своей жизни. И все же, он терзался сомнениями: «Хорошо ли я сделал, может быть, никого не надо было на холст? Может, пусть остался бы просто пейзаж?» Он хотел, чтобы «он сам был слышен», не оставляла надежда быть услышанным. Странно переплетались в этом юноше тоска одиночества, страх перед жизнью, и жажда жизни.
Картину купил Павел Михайлович Третьяков, своей покупкой открыв для Левитана широкую дорогу. Восемнадцатилетний художник почувствовал почву под ногами, понял, что его талант востребован, и что бедность и страх перед жизнью наконец от него отступят.
БЕРЕЗОВАЯ РОЩА
Левитан и Николай Чехов жили в одной гостинице, названной каким- то шутником «Восточными номерами». На самом деле это были захудалые меблированные комнаты, где у «парадного входа», чтобы плотней закрывалась дверь, были приспособлены на веревке три кирпича. К Николаю приходил брат Антон, известный московскому обществу своими рассказами, публиковавшимися в журналах. Сразу к Антону являлись какие-то студенты и начинали горячо с ним спорить.
— Если у вас нет убеждений, — нападали они на Чехова, — то вы не можете быть писателем!
— У меня нет убеждений, — отвечал он.
Студенты были, очевидно, недовольны им. Они хотели управлять, поучать, влиять, руководить. Они знали всё — всё понимали. А Чехову это было скучно.
— Кому нужны ваши рассказы?.. — кричали студенты. — К чему они ведут? В них нет ни оппозиции, ни идеи! Развлечение, и только.
— И только, — соглашался Чехов.
Чтобы не слушать их, он уходил с Левитаном, Коровиным и братом Николаем на прогулку за город.
—Антон, — говорил ему Левитан, — Вот у меня тоже так-таки нет никаких убеждений. — Он в это время был занят обдумыванием новой картины, но о живописи Левитан говорил так же мало, как Чехов о литературе, он скучал, когда о ней говорили.
Весной 1885 года Левитан поселился в деревне Максимовке близ Ново-Иерусалимского монастыря под Москвой, у горшечника Василия, горького пьяницы, пропивавшего буквально всё, что добывал. По соседству было имение Киселевых — Бабкино, и там гостила семья Чеховых. По вечерам братья Чеховы — Антон, Иван и Михаил — ходили к Левитану и подтрунивали над его незадачливым выбором жилья. Но Левитана это ничуть не трогало. Гораздо сильнее его донимали приступы какой-то непонятной тоски, и тогда он с ружьем уходил из дому, пропадал неизвестно где, пока жизненная радость не осеняла его снова. Случилось, что в один из походов Левитан попал под проливной дождь, и у него поднялась температура. Жена Василия прибежала в Бабкино просить Антона Чехова к больному. Братья надели сапоги, взяли с собой фонарь и, несмотря на кромешную тьму и ливень, отправились спасать друга. В Максимовке они кое-как добрались до дома горшечника, кроша сапогами раскиданные по всему двору черепки. Решили сделать «сюрприз» — не постучавшись и не окликнув, вломиться к Левитану и направить на него фонарь.
— Черт знает, что такое!.. Какие дураки! Таких еще свет не производил!.. — вскочил с постели Левитан.
Всем стало смешно, расхохотались, и Левитан как-то сам по себе выздоровел. А через несколько дней он перебрался в Бабкино, заняв отдельный маленький флигелек. Михаил Чехов по этому поводу написал стихи:
А вот и флигель Левитана,
Художник милый здесь живет,
Встает он очень-очень рано,
И тотчас чай китайский пьет.
Позвав к себе собаку Весту
Дает ей крынку молока
И тут же, не вставая с места,
Этюд он трогает слегка...
На этот флигель Антон Чехов приделал вывеску: «Ссудная касса купца Левитана». Исаак не остался в долгу. На окне, перед которым стояла швейная машина — чеховский письменный стол, он нарисовал аляпистую рекламу: «Доктор Чехов принимает заказы от любого плохого журнала. Исполнение аккуратное и быстрое. В день по штуке».
Антон Павлович радовался, что меланхоличный Левитан не испортил бабкинской веселой компании. Наоборот, после Антона Чехова он оказался самым изобретательным. И тот, и другой были талантливые актеры, и веселый день начинали или Чехов, или Левитан. Иногда по сговору оба. Да и все жители Бабкина составляли как бы небольшую труппу комедиантов. С раннего утра за чайным столом уже начинались невероятные рассказы, выдумки, хохот, который не затихал до вечера.
Бабкино сыграло выдающуюся роль в художественном развитии Левитана. В семье владельцев усадьбы, Киселевых, царил культ искусства. В гости приезжали известные музыканты, писатели, актеры. И конечно вдохновляла исключительно красивая природа вокруг. Левитан «чуть не сошел с ума от восторга, от богатства материала». С упоением работал он над этюдами и картинами.
|
|
«... Левитан иногда прямо поражал меня, так упорно он работал, и стены его «курятника» быстро покрывались рядами превосходных этюдов... Скоро их стало некуда вешать. Левитан любил природу как-то особенно. Это была даже и не любовь, а какая-то влюбленность... Искусство было для него чем-то святым... Левитан знал, что идёт верным путём, верил в этот путь, верил, что видит в родной природе новые красоты. Все Бабкино следило с восхищением за подвигом художника», — вспоминала Мария Павловна Чехова.
С Антоном Чеховым у Левитана установились своеобразные отношения.
Они поддразнивали друг друга, но те немногие высказывания и письма, которые дошли до потомков, свидетельствуют, что Левитан открывал свою душу только Чехову.
Здесь, в окрестностях Бабкино, Левитан сделал много набросков, доработав их через несколько лет. Один из них — «Березовая роща», которую он окончил в Плесе. Будто движутся тени по светлой траве, будто живая листва нависла зеленым шатром,—художник построил картину на игре освещения и движении. Еще нигде Левитан в своей живописи не подходил так близко к импрессионизму, подходил самостоятельно, не зная работ французских художников и не видя иных проявлений импрессионизма, кроме этюдов Константина Коровина. В самом деле, в этой работе импрессионистичны и «пятнистость» изображения, и «порхающее» движение.
Антон Павлович Чехов, увидев «Березовую рощу», с удовольствием заметил Левитану: «Знаешь, на твоих картинах даже появилась улыбка».
Она действительно есть в «Березовой роще», — такая редкая в творчестве Левитана... И навеяна эта улыбка, скорее всего, той беспечно-счастливой жизнью в имении Бабкино, которая выпала на долю обоих художников в первый и, пожалуй, в последний раз.
НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ
Волга была как прекрасная царевна, окруженная тайной. Никогда еще Левитан не чувствовал такое божественное нечто, разлитое во всем и непостижимое разуму.
Они плыли на пароходе вместе с Софьей Петровной Кувшинниковой — подругой и ученицей Левитана. Пароход шел по излучине реки, и вдруг, словно годами, веками поджидая Исаака Ильича, выступила из-за поворота взобравшаяся на холм маленькая деревянная церковь. Чем ближе подходил пароход, тем явственней различалось, что она старым стара. Пароход бежал мимо, и она как будто поворачивалась, глядя ему вслед, смиренно готовая к тому, что тот, кого она ждала, пренебрежет ею.
Но Исаак Ильич и Софья Петровна уже лихорадочно собирали вещи.
Плёс, — так назывался городок, где они вышли. Путешественников приютила хозяйка, которая им сразу понравилась. Плёс тоже понравился. Как-то удивительно хорошо тут было, и они не знали, откуда возникало ощущение счастья: от песен ли, которые доносились с улицы по вечерам и казались порождением Волги, или от забавного случая, что произошел с Левитаном, когда он за городом писал этюд. День был праздничный, после обедни в церкви женщины возвращались в соседнюю деревню и с любопытством останавливались возле художника: постоят, посмотрят и проходят.
|
|
Но вот приплелась дряхлая подслеповатая старушонка. Тоже остановилась, щурясь от солнца, долго смотрела на Левитана и его работу, потом истово перекрестилась и, вынув из кошелька копеечку, осторожно положила ее в ящик с красками. Бог знает, какие мысли явились у нее в тот момент, но Исаак Ильич усмотрел в поступке нищенки перст Божий.
И действительно, Волга, до того казавшаяся ему неприступной, вызывавшая глубокое страдание, что не сможет он, не сумеет выразить бесконечную красоту ее, сокровенность ее тайны, стала раскрываться ему навстречу. Левитан работал с таким рвением, словно боялся, что в этом милом краю побыть ему дано недолго, что он не успеет написать все, что поражало его вокруг.
Софья Петровна уговорила батюшку Якова отслужить молебен в церкви на холме, той самой, что так поразила их с Левитаном, когда подплывали к Плёсу.
Завозились на церковных карнизах потревоженные голуби, ударил раз, другой, словно откашливаясь после долгого молчания, колокол. Невесть откуда взялись три древние старушки, крестившиеся двуперстным знамением. Левитан был в сильном волнении и попросил Софью Петровну показать, как и куда ставятся свечи.
Вспыхнули огоньки.
Из темноты, дотоле скрывавшей иконостас, выступили строгие и добрые лики святых, они словно испытующе вглядывались в тех, кто потревожил их покой. И как будто даль — времени прожитого здесь людьми, их суровых забот и тайных упований — замаячила тогда перед глазами художника.
Побывав в церкви, растрогавшись до слез молитвой, которую назвал мировой («Не православная и не другая какая молитва, это мировая молитва.»), Левитан страстно потянулся к цельности, естественности и богатству духовной жизни, очищенной от мелких житейских сует. Он начал картину «Над вечным покоем».Несколько лет он работал над ней по заготовленным в Плёсе этюдам И когда она появилась на выставке, это был образ вечно земной красоты, вечного порыва духа. Исаак Ильич и прежде говорил, что красоте, разлитой в природе, можно молиться как Богу и просить у нее вдохновения и веры в себя, но здесь эта мысль была выражена особенно сильно, и к ней добавилось новое — почувствованная художником зыбкость и кратковременность бытия, что эту кратковременность всегда надо помнить и не размениваться на погремушки, как бы красиво они ни назывались: «признание», «слава», «избранность».
Картина вызвала много восхищенных толков. Даже те, кто был равнодушен к пейзажу, смотрели с удовольствием. А те, кого в искусстве коробили религиозные ноты, были единогласны в суждении, что величие этой картины как раз и заключено в маленькой церквушке на фоне безбрежия и бездонности.
«Я так несказанно счастлив! — писал Исаак Ильич Третьякову, купившему у него «Над вечным покоем». — В этой картине я весь, со всей своей психикой, со всем моим содержанием, и мне до слез было бы больно, если бы она миновала Ваше колоссальное собрание».
МАРТ
Как-то зимой Татьяна Куперник по дороге в Мелихово, где жил Чехов, заехала к Левитану посмотреть его новые работы. Когда он узнал, куда она затем направляется, стал длительно вздыхать и говорить, что ему тоже хочется к Антону Павловичу.
— Зачем же дело стало? Раз хочется — так и надо ехать. Поедемте со мной сейчас?
— Так вот и ехать. А вдруг это будет некстати? — Левитан заволновался, зажегся. И вдруг. решился.
Бросил кисти, вымыл руки, и через несколько часов они уже подъезжали по зимней дороге к низенькому мелиховскому дому. Залаяли собаки на колокольчик, выбежала на крыльцо сестра Антона Павловича, Мария Павловна.
Вышел закутанный по глаза Антон Павлович, в сумерках вгляделся в прибывшего мужчину, маленькая пауза, и — оба кинулись друг к другу, крепко схватили друг друга за руки, и... заговорили о самых обыденных вещах: о дороге, погоде, будто не было полутора лет разлуки.
Левитан рассказал Чехову, что летом гостил в имении Островно в Тверской губернии, много писал, не жалея ни себя, ни красок, и много путешествовал по окрестностям.
— Иной раз во время путешествий вдруг остановлюсь и стою томительно долго, как будто жду чего-то, — улыбнулся он.
— Не «мусульманина» ли? — смеясь, спросила Мария Павловна. В имении Бабкино Левитан однажды нарядился мусульманином и, восседая на осле, выехал далеко в поле. Пресерьезно расстелив коврик, молился на восток. А в траве ныряла другая чалма и злодейски нахмуренное лицо Антона Павловича, который наконец-таки выстрелил в высоко поднятый «мусульманский» зад. Высыпали откуда-то зрители, подхватили «мертвеца», образовали похоронную процессию и «хоронили» до тех пор, пока «покойник» не начал брыкаться.
— Прекрасное было время! — в задумчивости произнес Исаак Ильич.
— Март человеческой жизни.
Антон Павлович закашлялся. Он хворал, при кашле появлялась кровь, но он ни за что не желал называть болезнь своим именем — чахотка, и, заметив, как вздрогнул Левитан, сказал:
— Чертовский кашель создал мне репутацию человека нездорового, при встрече с которым непременно спрашивают: «Что это вы как будто похудели?» Между тем, в общем я совершенно здоров. Хочется роман писать длиною в сто верст.
Но Левитана нельзя было обмануть. Он сам хворал, врачи нашли у него расширение аорты, и он постоянно носил возле сердца сырую глину. Встреча друзей оказалась и радостной и печальной. Левитан сказал, что весной собирается в Островно. Это имение принадлежало светской львице Турчаниновой (Чехов позже изобразит Островно в рассказе «Дом с мезонином»). Антон Павлович пообещал навестить друга.
|
|
Весной Островно утонуло в зелени! Весенняя природа — прекрасная, юная, обращала Левитана в восторг и в какое-то тихое, отрадное чувство единства со всем и со всеми. Для него открылись новые, яркие краски, он почувствовал смелость в обращении с красками, кисть получила размах и уверенность. К тому добавился еще приезд младшей дочери Турчаниновой, Люлю, которую Левитан горячо полюбил.
«Трогательно прекрасны были бледное лицо, тонкая шея, тонкие руки Мисюсь, ее слабость, ее праздность, ее книги. А ум? Художник подозревал у нее недюжинный ум, его восхищала широта ее воззрений. Мисюсь встречала и провожала его, смотрела на него нежно и с восхищением. Он победил ее сердце своим талантом. А ему — страстно хотелось писать только для нее, и он мечтал о ней, как о своей маленькой королеве, которая вместе с ним будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарею.» — Чехов в рассказе «Дом с мезонином» изменил имя Люлю на Мисюсь.
Рядом с Люлю в Левитане будто прибывало сил, и он, поддаваясь молодому задору, написал «Март», где все нараспашку, где руки-ветви раскинуты, как объятья для счастья, где все полно ожиданием чуда. и где выглядывает золотисто-желтый угол того самого дома с мезонином.
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
Лето, проведенное в Островно, обратило Левитана к серьезной философии. Хотелось разгадать жизнь, узнать — что же находится там, за ее пределом? Больное сердце не было расположено к обольщениям: к небесной невозмутимой благодати; художник больше склонялся к тому, что «жизнь потом» сродни глубокому омуту: она очень близко, она рядом с людьми, но ее не увидеть.
Неподалеку от Островно находилось «колдовское», по мнению местных жителей, озеро, покрытое листьями и цветами водяных лилий. В народе их называли одолень-травой, которая одолевает любую нечисть, а, кроме того, охраняет едущих в иные земли людей от разных бед и напастей. Левитан все чаще стал проводить время на озере. Плавал на лодке вместе с Люлю; грести из-за болезни сердца не мог, и на веслах сидела она.
Этюды писал в упор: вода и лилии. Как вспоминала Люлю (Анна Турчанинова), приплывали на лодке, опускали на дно камень на веревке, чтобы лодку не относило, и Исаак Ильич работал. «Однажды мы приплыли сюда летней ночью. Исаак Ильич задумал написать картину «Лилии в белую ночь», и ему нужно было видеть их в освещении белой ночи. Я, как всегда, гребла. Веслом зацепила несколько лилий и поднесла ему. Он взял одну и поцеловал. Я сказала, что лилии скоро завянут, а мне хотелось бы иметь их на память в своем альбоме». И он написал ей в альбом несколько акварелей: березовую аллею, островенскую церковь и несколько раз повторенные лилии в хрустальном бокале и бирюзовой вазочке с золочеными краями. Каждая акварелька имела свою надпись с посвящением от Левитана: «Дорогой и милой Люлю...»
На «колдовском» озере Левитан, казалось, нашел разгадку своим мыслям. По верху темного омута плавали разноцветные листья, цвели белоснежные лилии, а в воде, в самых глубинах—была тайная жизнь. И то, что она существует, явствовало из сплетения стеблей — корневой, предельно родственной связи мира подводного и надводного.
И новое солнце заблещет в тумане,
И будут стрекозами тени,
И гордые лебеди древних сказаний
На белые выйдут ступени...
Но кончилось лето. Художник тихо бродил по лесу, собирая грибы, осторожно спускался по глубоким лощинам, мягко ступал по голубоватозеленому мху, останавливался отдохнуть возле тонких березок, которые, казалось, прислушивались к его трудному дыханию с таким же испугом, как Люлю. Ему тяжело было наклоняться за грибами, но он, шутил:
— Это еще не самое главное удовольствие, которое привязывает нас к жизни.
Но каким багряным пламенем горела осень! Как грустен был аромат палых листьев! Левитан любовался всем этим как драгоценностью, с которой надо расстаться. «Какая тайна мира — земля и небо! — думал он. — Что делается в лесу, какая печаль!»
Исаака Ильича уже давно называли создателем пейзажа настроения, умеющим раскрыть тончайшие состояния природы. Но для него самого природа все равно оставалась загадкой, как была загадочна и вся жизнь.
|
|
В картине «Золотая осень» буйство красок, последних красок перед стылостью и морозной онемелостью впереди; лебединая песня природы, когда вложено в мелодию самое потаенное. Облака тихо скользят в лазури, еще яркое солнце, но. близко безмолвие и пустынная белизна лесов.
Михаил Васильевич Нестеров (1862 - 1942)

ВИДЕНИЕ ОТРОКУ ВАРФОЛОМЕЮ
Не знал Михаил Васильевич, какой страшный удар уготовила ему судьба. Милая его Маша, с которой так счастливо прожили год, родив дочку Оленьку, заболела и уже не смогла оправиться. Приглашали лучших докторов, но те, осмотрев больную, уходили мрачными.
Как он молился за нее! Так уже никогда не молился.
Жизнь, наконец, осталась только в ее глазах, в светлой точке, которая постепенно заходила за нижнее веко.
«Я остался с моей Олечкой, а Маши уже нет, нет и недавнего счастья, такого огромного, невероятного счастья! Наступило другое, страшное, непонятное.»
Похоронили жену Нестерова в Даниловом монастыре. Приехал дядя — хороший, добрый человек, предложил увезти девочку с собой в Тверскую губернию, где будет за ней догляд и уход. «Дядюшка достал плетеную корзиночку, уложил в нее мою дочку и увез».
Михаил Васильевич остался один, опустошенный. Только искусство было с ним, и он отдавался ему до последней кровинки, веря, что через искусство сможет отыскать ответ на то, что случилось.
Это был долгий путь, тяжелый, но именно он привел художника к «Варфоломею». Картина «Видение отроку Варфоломею» -- момент из детства великого русского святителя Сергия Радонежского, чья спокойная, чистая жизнь наполнила собой почти столетие. Сергий (в миру Варфоломей) родился в тревожное для России время. Татарщина ложилась камнем на сердце народа. Ханы властвовали. Чуть что — карательная экспедиция, зверства, грабеж, насилие и кровь. Но и в самой России шел процесс мучительный: «собирание земель». Это делалось тоже не всегда чистыми руками. Народ роптал, волновался, жаловался. Говорили, что Москва тиранствует.
Семилетний Варфоломей из небогатой боярской семьи, отыскивал жеребят, которые забрели куда-то и пропали. Бродил по полям и лесу, по берегу ростовского озера, кликал, похлопывал бичом. Нашел не то, что искал. Под дубом встретил старца черноризца.
-- Что тебе надо, мальчик? -- спросил его старец.
Варфоломей рассказал о свом огорчении.
Что-то в ребенке привлекло внимание незнакомца, что-то особое, тонкое. Вынув из-за пазухи просфору, он благословил ею Варфоломея и велел съесть.
— Это дается тебе в знак благодати.
Варфоломей всегда был задумчивым, созерцательным мальчиком, а теперь стал настоятельно просить родителей отдать его в монастырь. Отец не пускал, и он еще несколько лет жил в родительском доме. Потом ушел далеко в лес, выбрав место на небольшой площадке, которая высилась как церковная маковка; поселился там. Поначалу было страшно. В церковке, срубленной Варфоломеем и его братом, не захотевшим остаться в лесу, Варфоломею виделись бесы. Были они в литовских шапках. Литовцы в те времена не раз нападали на русские княжества, разоряли их. Простонародье ненавидело и боялось литовцев не меньше татар. И в кротком уединении мерещились Сергию «бесы».
Но как ни одинок был в то время преподобный, слухи о его пустынничестве шли. К нему стали являться люди, прося взять к себе. Построили двенадцать келий. Обнесли их тыном. Жили тихо и сурово. Так проходили годы. Монастырь рос, сложнел. Сергий был прост: беден, нищ и равнодушен к благам. По виду его можно было принять за последнего из монастырских послушников, однако тихое его слово было слышно далеко по Руси. Братия настояла, чтобы Сергий стал игуменом.
А в Москве великий князь Дмитрий (Донской) возвел каменный Кремль.
«Всех князей русских стал подводить под свою волю, а которые не повиновались, на тех начал посягать». Дмитрий имел далеко идущие планы: объединить под началом Москвы разобщенные русские княжества и дать, наконец, отпор ненавистной Орде и литовцам, нагло рвущимся к Москве. Он и так не слишком считался с ханами, и хан Мамай, решив покончить с непокорным Дмитрием, собрал всю волжскую Орду, нанял хивинцев, ясов и буртасов, сговорился с генуэзцами, литовским князем Ягайло — и летом 1380 года заложил свой стан в устье реки Воронежа. Время для Дмитрия было крайне сложное. Митрополит Алексий умер, митрополит Митяй уехал к патриарху в Константинополь. За благословением на страшный бой великий князь Дмитрий отправился к Сергию.
До сих пор преподобный Сергий был тихим отшельником, тружеником, скромным игуменом и воспитателем. Теперь стоял перед трудной задачей: благословения на кровь. Но на трагической земле идет трагическое дело, и он благословил ту сторону, которую считал правой. Он не за войну, но раз она случилась — за народ и за Россию. Начался молебен в Сергиевой Лавре. Во время службы прибывали вестники — война и в Лавру шла, — докладывали о движении врага, предупреждали торопиться. Сергий упросил Дмитрия остаться к трапезе.
— Тебе, господин, — сказал он ему после трапезы, — следует заботиться и крепко стоять за своих подданных, и душу свою за них положить, и кровь свою пролить по образу самого Христа. И Бог не пропустит Орду одолеть нас. Иди, не бойся.
8-е сентября 1380 года! Хмурый рассвет. Дон и Непрядва, Куликово поле. Русь вышла в степь мериться со зверем степи! Единоборство Куликова поля вышло из размеров исторических. Создало легенду. Битва была — особая. Столкновение миров.
Предсказание Сергия исполнилось: Дмитрий возвратился в Москву победителем. Самая победа была грандиозна, и значение ее, прежде всего — моральное. Было доказано, что мир европейский, христианский — не рабы, а сила и самостоятельность. В поединке Руси с Ханом имя Сергия навсегда связано с делом созидания России.
В дни работы над «Варфоломеем» художнику приснилось два сна. Первый такой: высокая, до самых небес, лестница. Он поднимается по ней все выше и выше — к облакам. Второй — «Варфоломей» в Третьяковской галерее, висит в Ивановском зале. Повешен прекрасно, почетно. Оба сна оказались пророческими. Прошел год, картина «Видение отроку Варфоломею» действительно висела в Третьяковской галерее и даже именно в том зале, который видел во сне художник. «Варфоломей» высоко вознес Михаила Васильевича, прославив его имя.
Позже, когда Нестеров писал картину «Труды преподобного Сергия», произошло еще одно удивительное событие: художник боялся писать лицо Сергия, оно мерещилось ему только смутно. В конце концов чутье подсказало, что Сергия надо писать с рыжеватой бородой. Какого было состояние Нестерова, когда в 1920 году при вскрытии мощей преподобного старца художник своими глазами увидел, что борода у Сергия была рыжеватой.
|
|
Для Михаила Васильевича работа над «Видением отроку Варфоломею» стала огромным шагом к стойкой вере в победу света. Чего бы то ни было, но надо жить с верой и достойно, и всегда помнить, что жизнь не кончается сегодня.
ВЕЛИКИЙ ПОСТРИГ
Немало в ноченьки тайные было любовных речей перемолвлено, немало с милым дружком бывало сижено, по полям, по лугам похожено, по рощам, по лесочкам погуляно. Раздавались, расступались кустики ракитовые, укрывали от людских очей стыд девичий, счастье молодецкое. Лес не видит, поле не слышит, а людям не на что знать.
Засылал добрый молодец сватов к отцу девицы: разузнать, какие мысли насчет дочери держит, даст ли благословение за него замуж пойти? «Не по себе дерево клонит, — отвечал отец. — Сыщем зятя почище его».
И вот стоит дочь перед отцом, точно в землю вросшая. Стыд ее девичий сарафаном не спрятать.
— Говори, бесстыжая, говори, не то разражу!..
— Батюшка! — помертвела.
Поглядел, плюнул и велел работнику лошадей запрягать, — сам повезет дочь в раскольничий скит.
— Береги ее, мать Платонида, глаз не спускай,— передал игуменье с рук на руки. — Чтоб из кельи, опричь часовни, никуда ноги не накладывала, и чтоб к ней никто не ходил. А это тебе, матушка, платок драдедамовый, китайки на сарафан, сукно на шубу, икры бурак, сахару голову, чаю фунт, меду сотового.
Не видит девица в скиту света белого. Скит что острог: частоколом обнесен, окошками в лесную глушь смотрит. В трапезную все разом идут, уставные поклоны кладут, слушают заунывное чтение синаксари. А на столе — горох с лапшой. Игуменья после трапезы чай пьет у себя в покоях, к чаю балык и свежие булки. Остальные — за работу садятся. Лен и шерсть прядут, шелками вышивают, синелью по канве, золотом по бархату, книги древние переписывают. Не на себя работают, на скит. Игуменья те работы в подарок скитским благодетелям отвезет, а они сторицей ее отдарят. Клетка! Одно только и есть в ней окошечко — в природу. Сколько звуков там, сколько чувств! Там все в празднике звонком, там каждая пташка парой живет и гнедо свое строит, — песни с утра до ночи!
Но и в скит, в тюрьму, не всякую девицу примут. Без денег не допускают к спасению. Разве что в черные трудницы — работницы вечные. За двоих работает каждая. Скит — большое хозяйство. В черных трещинах руки у трудниц, корявы и жилисты — на богатых сестер во Христе день и ночь спину гнут.
Тайной ноченькой дитя родилось у девицы. Глянуть не дали, увезли куда- то. А вокруг весна, жизнь из каждой ложбинки и почки на свет торопится, а девица заживо с жизнью прощается. Заживо отпоют ее, мирского человека. Выстригут крест на маковке, облекут в одежды черные, станет она инокиней, век будет вековать в постах и молитвах.
Годы идут. В молитвах и трудах проходит жизнь инокини. Жизнь? Что за жизнь! Лучше б в могилу сразу. Мечется инокиня в душной келье, головой бьется о стену: зачем не послушалась милого дружка, не вышла замуж «уходом», повенчавшись в православной церкви? Батюшка бы простил, когда бы в ноги ему поклонилась, с родным внуком к нему пришла.
|
|
Строгий пост, удручение плоти. Реже и реже встает в памяти милый друг, — высохла, вытянулась инокиня. Отжила для мира. Затихло горячо любившее сердце.
«Я окончил картину «Великий постриг», — читаем в «Воспоминаниях» Нестерова. — Она помогла мне забыть мое горе, мою потерю, она заполнила все существо мое. Я писал с каким-то страстным воодушевлением!»
Он многое в своем творчестве склонен был объяснять событием личной жизни: потрясшей его смертью жены Машеньки. Он, как та девица, отданная отцом «на исправление» в скит, тоже был влюблен. Родители не хотели Машу, и он женился поперек их желания. Но когда Маша умерла, родители все поняли, слезами омыли свое упрямство, молили прощения у сына, и он просил у них прощения за себя и за Машу.
В «Великом постриге» — глубокая человеческая драма. Стройные девушки с тонкими, строгими лицами. Одна — совсем девочка, сирота, которую отдают в скит, избавляясь от лишнего рта. Какими же мрачными выглядят одежды монахинь, сопровождающих девушек под иноческие ножницы. Как страшны, должно быть, «голубицам» тяжелые удары церковного била! Похоронная процессия.
И все-таки нет жизни без чудес. Из скитов тоже случались «уходы». Может быть, этим «голубицам» повезет, и все еще наладится в их молодой жизни.
Интимность и поэтическая торжественность были главными чертами творчества Нестерова. Он избегал изображать так называемые сильные страсти, предпочитая им тихий пейзаж и человека, живущего внутренней жизнью.
Полотно встретило очень теплый зрительский прием. Даже противники творчества Нестерова признали на этот раз, что «в этом реквиеме по несбывшемуся счастью» художник поднялся до небывалой высоты.
Прямо с Передвижной выставки картина «Великий постриг» отправилась в музей императора Александра III.
ПОРТРЕТ ДОЧЕРИ
Олю забрали к себе дед с бабушкой — в Уфу. Навещая их, Михаил Васильевич видел, как они без памяти ее любят. В старый быт купеческой семьи маленькая Оля вдохнула новую жизнь.
Рано, чуть ли не пяти часов, не спится Оле. Она проснулась и в великом восторге видит маленькую елочку всю в огнях, всю увешанную подарками. Она вскакивает и еще в рубашонке устремляется в угол, а там, у большой изразцовой печки — чего только нет! И лошадки, и московские куклы, привезенные отцом, наряженные в шубы, шляпы и муфты, и разная игрушечная мебель.
Однако надо умываться, молиться Богу — того гляди, начнут стучаться славильщики.
А вот и они, ввалились в дом вместе с морозным паром, и бойкими задорными голосами уже поют: «Ангели с пастырьми славят, волсви же со звездою путешествуют.»
Все собрались к чайному столу. Каких только удивительных вкусных штучек не напекла счастливая без меры бабушка! Сама себя превзошла ради великого праздника и любимой внучки.
День прошел быстро. Надо готовиться к елке. Настал час украшать ее. Бабушка с дедушкой рядом с внучкой. Участие отца сводится к тому, что он перебил немало хрупких елочных украшений. Так или иначе, к положенному часу все готово. Съехались гости: дети, их мамаши и тетушки.
Зажгли елку, отворили двери в зал, и вся ватага под звуки веселой музыки двинулась вперед.
А тем временем Михаил Васильевич, его сестра и молодые друзья дома спешно готовили неожиданное зрелище — мистерию. Установив в передней кулису с пещерой и яслями, на дне которых в соломе был поставлен фонарь, дававший иллюзию сияния от младенца Иисуса, усадив Богоматерь — Олюшкину няню, дали звонок, другой, третий.
Дверь распахнулась, и очарованному зрителю представилось волшебное видение! Что-то очень трогательное и поэтическое вышло из затеи Михаила Васильевича. Восторженные зрители не скрывали своих чувств, пришлось несколько раз возобновлять зрелище, запирая и открывая двери передней.
Но кончился праздник. Михаил Васильевич продолжил работу над картиной. Когда она была завершена, он, провожаемый самыми лучшими пожеланиями, простившись с милой Олей, выехал в Москву.
Через несколько лет Нестерова пригласили в Киев расписывать Владимирский собор. Дочку он взял с собой, устроив в киевский институт благородных девиц. «По праздникам я бывал у нее в институте на приемах, и она радостно появлялась в переполненном зале то с голубым, то с розовым бантом, а иногда и двумя — за успехи в языках французском и немецком. Начальница была очень заботлива к Олюшке. Иногда она болела, и тогда заботы начальницы к ней удваивались».
Каникулы девочка проводила дома, с отцом.
Но вот случилось, что после очередных каникул одна из воспитанниц занесла в институт скарлатину. Заболело сразу несколько девочек и среди них — Оля Нестерова. Уход за ней был исключительный, но жизнь ребенка висела на волоске. Приехала из Уфы сестра Михаила Васильевича, ей разрешили оставаться возле больной.
Проходили дни, недели, температура стояла высокая, болезнь кинулась девочке на уши, почки, осложнилась дифтеритом. Пошли одна за другой операции. «Олюшка лежала с головы до ног забинтованная, как Лазарь в гробе. В моей девочке у меня оставалась последняя надежда на счастье, последнее воспоминание о Маше. Чего-чего я не передумал в те дни, недели, месяцы.»
С сентября по январь болезнь неустанно угрожала больной, и Михаил Васильевич жил под постоянной угрозой потерять свою дочь. Девять месяцев болела Оля!.. Потом он увез ее в Крым.
Снова девочка была здорова, но в характере ее появились такие черты, каких никогда прежде не замечалось: задумчивость и строгость.
Портрет Ольги Нестеровой, написанный Михаилом Васильевичем в 1906 году, говорит о том, что веселая девочка с разноцветными бантиками осталась очень далеко. Долгая болезнь, перенесенные сложнейшие операции наложили неизгладимую печать на ее чело.

В картинах, портретах Михаил Васильевич создавал свои, «нестеровские» образы. Любовь к Маше и потеря ее дали живописи Нестерова свое лицо: строгое, тихое, верующее. Картины его — это круг жизни. Теплом и грустью веет от их мудрой правды. «Правду художественную я признаю индивидуальной», -- говорил он. Жизнь определила для него черты и грани внутреннего мира человека, и он раскрывал их в своих полотнах. Ольга — в костюме амазонки, но это глубоко русская девушка. Не зря Михаил Васильевич выбрал вечер и берег реки. В прозрачной воде, словно в зеркале, отражаются мысли и чувства Ольги.
«Портрет дочери» — редкостный по благородной простоте и вместе с тем изысканнейший портрет-картина.
Иван Яковлевич Билибин (1876 - 1942)

РУССКОЕ ЧУДО
Среди русских художников имя Ивана Яковлевича Билибина стоит наособицу. Он не писал больших художественных полотен, он писал иллюстрации, и первый создал детскую книгу, в основе которой лежала народная сказка.
Еще учась в Петербургском университете, Билибин увлекся древними книгами, где рисунки-миниатюры имели свое, особенное, значение, органично ложились на плоскость книжного листа и прекрасно сочетались со старославянским шрифтом. Это и подтолкнуло молодого художника к ансамблевому решению детской книги.
Живописью Билибин занимался параллельно с учебой в университете
— посещал мастерскую княгини Тенишевой, где преподавал Репин. В «тени- шевке» юные художники чувствовали себя богаче миллиардеров: музыка, живопись, пение, танцы, и всё — свое! Шли бесконечные споры о живописи, в моду входило пренебрежение точным рисунком, смелость, размашистость, быстрота исполнения. Билибин со своим лакированным ящичком, с маленькими тюбиками тонкотертой краски, со своей аккуратно крашеной живописью был удивительно ярко заметен и упорно не поддавался общему течению.
За год до окончания университета Билибин съездил в Тверскую губернию.

Сделанные там зарисовки — огромные лапы старых елей, красные мухоморы на изумрудном мху, тихие лесные ручьи и речки, затейливая деревянная резьба на крестьянских избах дали художнику богатейший материал для иллюстраций.
Он хорошо владел шрифтами, особенно древнерусским уставом и полууставом, и разработал систему графических приемов, которые позволяли объединить иллюстрации и оформление в одном стиле: обложка, рисунки, орнамент, шрифт.
Все это он стилизовал под старинную рукопись.
Но тут необходимо сказать еще об одном человеке — Александре Николаевиче Афанасьеве, выдающемся историке, этнографе и фольклористе. Афанасьев в 1855-1863 годах собрал и опубликовал русские сказки, без которых едва ли может себя помыслить хоть один русский человек. Целое море народной фантазии предстало перед читателем! До этого сказки передавались из уст в уста, напечатанных не было, кроме авторских — Аксакова, Пушкина и других.
Благодаря Афанасьеву читатель увидел русскую сказку во всем ее разнообразии, в ее истинной красоте, неприкрашенной и неподдельной! Билибин писал иллюстрации по текстам Афанасьева, что явилось огромной ценностью, ибо в последующие годы эти тексты перерабатывались, и была уничтожена их первозданность.
Так, например, в сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», опубликованной Афанасьевым, козленочек не превращается снова в мальчика Иванушку, а его сестрица Аленушка выходит замуж не за купца, а за царя. И предсмертное моление козленочка, и ответ Аленушки — не схожи с теми, какие мы знаем ныне.
Билибин принес в Экспедицию Государственных Бумаг две готовые книжки, интересуясь стоимостью их печати. Оплатить же вызвалась его тетушка. Как раз в это время управляющий ЭЗГБ князь Борис Борисович Голицын поставил задачу способствовать культурно-эстетическому развитию народа, выпуская отпечатанные на хорошей бумаге иллюстрированные издания русских классиков и популярные сочинения по всем отраслям науки. Рисунки Билибина ему настолько понравились, что Голицын предложил художнику продать их ЭЗГБ. Билибин согласился.
Несмотря на то, что Билибин только начинал свою деятельность как иллюстратор, самобытность его рисунков создала особый «билибинский» стиль, навсегда утвердившийся в художественном мире. Книги Билибина выглядели роскошно!
ЭЗКБ напечатала их на плотной тонированной бумаге, рисунки наклеивались. Желатиновый клей, пропитывая рисунок насквозь, создавал иллюзию масляной краски. Церковные колокола покрывались золотом. И при этом стоимость книги была 75 копеек, — доступно для любого сословия.
Сравнивая книги Билибина с книжной продукцией 1880-1890 годов, художник Бенуа взволнованно говорил: «Какой дрянью кормили русских детей! Не потому ли и распространилась теперь порода людей до последней степени огрубелых». Он считал, что хорошо изданные детские книги — это «могучее культурное средство, которое предназначено сыграть в русской образованности более благотворную роль, нежели мудрейшие государственные мероприятия и все потоки научных слов о воспитании».
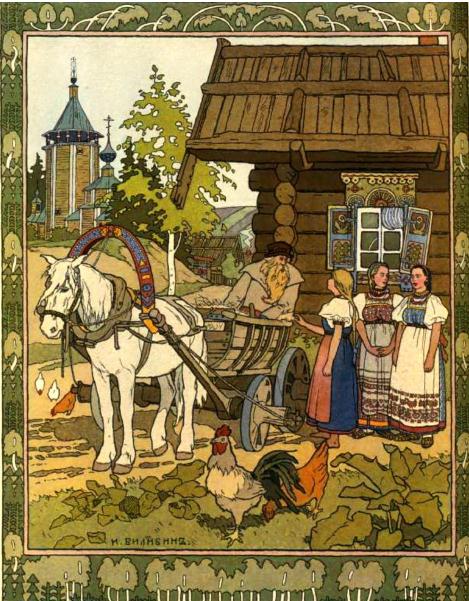
В 1900 году Иван Билибин окончил университет, но работать юристом не стал, его целиком захватила живопись. Репин перевел его вольнослушателем в свою мастерскую в Академии художеств, где Билибин продолжал заниматься до 1904 года. Одновременно собирал и изучал предметы крестьянского быта: вышивки скатертей, полотенец, раскрашенную деревянную и глиняную посуду, фотографировал дома с резными наличниками и причелинами. С необычайной тщательностью и любовью зарисовывал узоры старинных тканей, детали отделки богатых кафтанов, добротных шуб и расписных сарафанов. Дважды побывал в экспедициях на север России, которые проводились по заданию этнографического отдела Музея Александра III. Страстный, пылкий, впечатлительный, увидев одну из церквей в Олонецкой губернии, художник готов был забрать эту церковь с собой!
Увлеченность старым русским стилем, благоговейное восхищение перед забытой стариной и крестьянским фольклором стало характерной особенностью билибинской манеры: его нарядные рисунки были усыпаны десятками деталей, каждая из которых благодаря достоверности изображения являлась украшением книг.
Своим искусством Билибин звал в мир, где нет трагедий, где царит счастье. С особенным удовольствием писал он иллюстрации к сказке «Царевна- лягушка». Кощей Бессмертный превратил свою дочь в лягушку за то, что не захотела ни вечного холода, ни несметных его богатств. Тридесятое царство, которым правил Кощей, было царством смерти; там всегда стояла зима, повсюду сверкали и переливались золото и драгоценные камни, но не было ни одного живого цветка или дерева. И все же доброта победила! Кощей нашел свою смерть, вечные льды растаяли, лягушка снова стала Василисой Прекрасной, и на всей земле наступила весна! Как говорил художник В.М. Васнецов: «Красота — это любовь, это добро, она живёт в душе человека, в душе народа. А душу свою он раскрывает в сказке, в песне, в предании».
В 1904 году Экспедиция Государственных Бумаг заказала Ивану Яковлевичу иллюстрации к двум пушкинским сказкам — о царе Салтане и Золотом петушке. Сказки Пушкина остались в русской литературе уникальным явлением. Они сыграли важную роль в сближении изящной словесности с ее первоисточником — устным народным творчеством, и обогатили русский литературный язык. «Сказку о царе Салтане» Билибин иллюстрировал первой и начал со страницы, где царь Салтан подслушивает разговор трех девиц.
На дворе ночь, месяц светит, царь спешит к крыльцу, проваливаясь в снег. Изба самая настоящая, крестьянская, с маленькими окошками, нарядным крыльцом. А вдали — шатровая церковь; в XVII веке по всей Руси строили такие церкви. И шуба у царя настоящая, такие шубы шили из бархата и парчи, доставляемые в Москву из Греции, Турции, Италии и Ирана.
Эта сказка с ее многокрасочными картинами древнерусского быта дала богатую пищу билибинскому воображению. В ее оформлении он достиг особого блеска и выдумки. Насмотреться на его иллюстрации было невозможно: чем больше человек смотрел, тем все более интересные детали и подробности раскрывались ему.
В 1909 году Билибин окончил иллюстрировать «Сказку о Золотом петушке». Являясь невероятно ярким, самобытным, образным художником, он сумел уловить что-то вечное и неизменное в характере Древней Руси, воссоздав это в своих рисунках.
Оформление обеих сказок Билибин довел до общественной значимости.
Высоко оценив его работу, Музей Александра III купил иллюстрации к «Сказке о царе Салтане», а весь иллюстрированный цикл «Сказки о золотом петушке» приобрела Третьяковская галерея.

На художника посыпались похвалы! Слушая, он говорил друзьям: «Точно Америку открыли старую художественную Русь, вандальски искалеченную, покрытую пылью и плесенью. Но и под пылью она была прекрасна, так прекрасна, что вполне понятен первый порыв открывших ее: вернуть! вернуть!»
Своё понимание национальных задач в искусстве Билибин выражал очень четко: «Настоящий национализм художника сказывается не в том, что он заранее говорит себе: буду работать в русском стиле, — а в том, что, будучи связан тысячью незаметных, но несомненных нитей со своей страной, он совершенно безотчётно и инстинктивно имеет тяготение именно к этой стране, а не к другой».
С осени 1907 года Иван Яковлевич начал преподавать в Школе Императорского общества поощрения художеств. Десять лет художественная поросль России была обязана самородным секретам его мастерства. В январе 1917 года Билибин был представлен к званию академика.
Февральскую революцию он встретил сочувственно, вошел в состав Особого совещания по делам искусств и выполнил эскиз нового герба — двуглавый орел эпохи Ивана III без атрибутов царской власти. Любопытно, что когда в 1489 году германский император Фредерик предложил Ивану III королевскую корону, мечтая о подчинении России Западу, тот ответил гордым отказом: «По милости Бога мы и наши предки владели нашей землей с исконных времен, постановление имеем мы от Бога и не нуждаемся в постановлении ни от кого более!»

В России закона о символике не существовало. Банкиры взяли за основу герб Временного правительства. До нынешних дней на российских денежных знаках — официальная эмблема Банка России, которую выполнил Билибин.
Октябрьский государственный переворот Иван Яковлевич не принял. Уехал в Крым, где участвовал в комиссии по охране художественных сокровищ полуострова. В 1920 году эмигрировал из большевистской России в Каир. Оформлял балетные спектакли для труппы Анны Павловой, делал эскизы росписей для православных храмов. Через пять лет переехал в Париж, где иллюстрировал сборники русских, французских и немецких сказок.
«Русское чудо!» — называли его.
И все же переиначить себя, европеизировать свою живопись Билибин не смог, как не смог поменять гражданство и отказаться от своей фамилии, изменив ее на европейский лад. «Я большой националист и очень люблю Россию», — отвечал он тем, кто настойчиво этого требовал. И, обращаясь к русской эмиграции, призывал: «Не павшие морально люди русской культуры должны собираться в духовные крепости-хранилища, чтобы сохранить то, что мы вынесли в себе из нашей страны. Это надо уберечь и передать более счастливым нашим наследникам в России».
4 февраля 1935года Билибин написал Игорю Грабарю в СССР: «Ставлю вопрос прямо: не могу ли я продолжать работать для своей страны, как я делал это прежде. Постепенно, но твердо я пришел к убеждению, что вы живете, строите, растёте, а здесь, в Западной Европе — растерянность и безысходность. Жить здесь трудно, главным образом, морально».
В 1936 году Иван Яковлевич вернулся на родину. Преподавал в Академии художеств, иллюстрировал книги, работал над оформлением спектаклей. В 1941 году, в блокаду, остался в осажденном Ленинграде, не пожелав, пока еще имелась возможность, покинуть город. «Из осажденной крепости не бегут — ее защищают». И действительно защищал, как мог.
К Новому, 1942 году, он написал стихи:
Проходят дни, проходят годы,
Иссякнет сей кровавый пир.
Придет весна, пройдут невзгоды,
И снова улыбнется мир!
Совсем как в сказке о Царевне-лягушке, где добро через все преграды одолело злобу Кощея и вернуло на землю весну.
Так и случится 9 мая 1945 года.