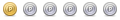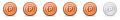Сталин называл Мерецкова, если уж быть точным, "хитрым ярославцем" и "мудрым ярославецем".
Сталин вовсе не Ярославского имел в виду, как это сгенерировало больное воображение Козинкина.
Сталин ВОТ ЭТО имел в виду.
Рассмотрим в качестве примера, как складывается и воспринимается характер ярославца, представляющий собой особую разновидность русского характера. (Вопрос об оригинальности ярославца трактуется в соответствии с тем, что он сам о себе думал, и с тем, что думали о нем другие.)
Согласно всероссийскому приговору, ярославец подобен ртути. Он легок на подъем, ему нетрудно сменить среду обитания, расстаться с привычными пределами существования. Ярославцев часто называют «кукушкиными детьми», намекая на их способность терять малую родину без долгих раздумий и колебаний. У очеркистов возникает образ народа почти кочевого, бродяг в человечестве. Ему тесно дома, в узких, обжитых границах повседневности. Его манят неслыханные дали, необозримые горизонты, далекие края, неизведанные пространства бытия.
Истолкование этой черты культурного типа не должно удовлетворяться простейшими объяснениями. Здесь учащиеся и студенты могут убедиться, что один признак может быть мотивирован весьма многоразлично. Чтобы объяснить причину непоседливости ярославца, указывают, как правило, на дурнокачественность и недостаток земель. Действительно, сила и тяга земли в крае странно слабы. Власть земли не может принудить ярославца осесть и замереть. Однако существуют, вероятно, и иные поводы к чрезвычайной подвижности. Во-первых, край не имеет границ. Край располагается на большой дороге, точнее - на перекрестке старинных водных и сухопутных дорог. Здесь проходил волжский путь из варяг в арабы. А с середины Х VI века лет на сто пятьдесят образовалось главное на Руси перекрестие торговых путей. Это движение затягивало ярославца, вовлекало его в торгово-коммерческий круговорот. Ему открывались новые горизонты существования, и естественные пределы родины начинали расширяться до границ страны, а то и до океанических окраин.
К движению в пространстве располагали и контакты ярославцев с теми, для кого такое движение являлось нормой. Сначала это варяги, затем, после новгородского погрома 1570 года, в Ярославль были сосланы деятельные граждане Новгорода - торговой общины, объемлющей просторы русского Севера. Их опыт торговых путешествий был усвоен ярославцем. Кроме того, с середины Х VI века у ярославцев возникает возможность встретиться с иноземными торговыми людьми.
Учтем в образовательном процессе и особый духовный опыт ярославца, имевший, как представляется, фундаментальное значение для его житейского самоопределения, во всяком случае в верхнем регистре этого культурного типа. Базисной чертой ярославского духовного опыта можно считать именно отрыв от почвы, уход за предел. Этот уход у ярославца был связан и с его древними языческими воспоминаниями. Архаическое мироощущение в Верхневолжье определялось, насколько можно судить, радикальным дуализмом. Окружающая реальность воспринималась как враждебный мир, находящийся во власти беспощадного Велеса, который требует человеческих жертвоприношений, но ничего не обещает взамен. Жуткий мир без надежд и гарантий едва ли мог внушить по отношению к себе теплые чувства. Вырваться отсюда можно только сбросив телесную оболочку и душой вознесясь в обители небесного божества-громовика. Трудно сказать, насколько актуальна была эта языческая память в последующие времена утверждения христианства. Иногда ощутимы следы драматического контакта с языческим опытом: например, в аскезе Никиты Столпника, уходящего в столп, который в то же время интерпретируется как могила, где подвижник хоронит себя заживо.
Отрыв от естественной среды существования, выход за ее пределы мог реализоваться по-разному. Это был поиск новой социосферы - и ярославец действительно нередко эмигрирует из своей традиционной культурной ниши, меняет социальное окружение и положение. Но это мог быть и поиск Бога, взыскание небесного града, выход в теосферу и разрыв с социумом. С Х IV века ярославское Заволжье (северная Фиваида) делается местом бегства от мира отшельников-иноков, спасающихся в уединении для вечной жизни. Способом разрыва с миром являлось и юродство, процветавшее в Ростове (Исидор Твердислов, Иоанн Власатый, Иоанн Большой Колпак), а затем, в Х VII веке, его дополнило затворничество (Иринарх и др.). Ярославский край стал местом широкого распространения апокалипсических старообрядческих практик бегства от мира, из общества, где, согласно воззрениям бегущих, владычествует Антихрист,- вплоть до групповых добровольных самосожжений. Значимы и опыты Капитона, «предивного старца», объявившегося под Даниловом в 1630-х годах и проповедовавшего самоистребление плоти, а также эсхатологической секты-церкви странников, основанной Евфимием под Ярославлем. Странники отвергают мирское и земное; пребывать в странствии вне обреченного на гибель, проеденного грехами мира - идеал их аскезы.
Распространенность подобных практик в крае, кажется, беспрецедентна в России. И нельзя думать, что они не оказали свое влияние на широкие народные слои, ослабляя «зов земли», тягу человека к почве и привычку связанности условиями эмпирического бытия. Уместно, наконец, видеть в странничестве, беспочвенности, эсхатологическом профетизме, так широко реализовавших себя в крае, выражение кенотипической и христоцентрической ориентации, давшей наивысочайшие опыты святости.
Перечислю еще ряд признаков культурного типа, значимых в учебном процессе.
Широта контактов, активность и подвижность расположили ярославца к диалогу. Это преимущественно экстраверт, проводящий время в разговорах: грек Поволжья, подчас болтливый не менее, чем его «культурный предок». Искренняя веселость, непоказной оптимизм - норма в ярославском обществе. Ярославец неразлучен с шуткой, прибауткой, он не просто бойкий говорун, но временами и дерзкий ерник, для которого мало есть запретных тем. Известен ростовский кирпичник Любимка Репкин, который, будучи не вполне трезв, говорил в 1626 году про государя «непригожие речи»: «что де он, Любимка, в Ростове не боится никого да и на Москве де он государю укажет» .
Ярославцы - красавцы. В том согласны предание и молва. Так об этом пишет очеркист И.Кокорев: «Взгляните на этого парня: кудрерусый, кровь с молоком, смотрит таки молодцом, что хоть бы сейчас поздравить его гвардейцем; повернется, пройдет,- все суставы говорят; скажет слово - рублем подарит; а одет - точно как будто про него сложена песня: «По мосту, по мосту, по калиновому» - и кафтан синего сукна, и кушак алый, и красная александрийская рубашка, и шелковый платок на шее, а другой в кармане, и шляпа поярковая набекрень, и сапоги козловые со скрипом. Так бы и обнял подобного представителя славянской красоты!» По словам А.Гакстгаузена, «ярославские женщины считаются самыми красивыми во всей России», а ярославский «народ признается за красивейший и способнейший между Великоруссами» .
Общепризнанно, что ярославец - умник и грамотей. И ум его - это ум не теоретизирующий, далекий от схоластики, насквозь практический ум. Это народ ухватистый, предприимчивый, наделенный немалым здравым смыслом. Сообразительность ярославца направлена на достижение практических результатов. В воспоминаниях И.Гарусова о Ярославле XIX века является «народ недремлющий, отважный, смелый, предприимчивый и юркий», несравненно лучше умственно развитый и самостоятельный, чем в других губерниях .
И.С.Аксаков в середине Х I Х века восклицал: «Ярославская губерния! Сколько исторических воспоминаний на каждом шагу, сколько собственных своих святых, сколько жизни и деятельности в торговле и в промышленности, сколько предприимчивости в крестьянах...». Он же прибавляет, что ярославский «народ смышлен, сметлив, общителен, людим» - и сравнивает его с народом костромским: «быт и самый народ там гораздо чернее или «серее» ярославского. После Ярославской губернии вы невольно поражаетесь грубостью и невежеством, грязным бытом костромичей» . Воодушевившись «неописанной» красотой Ярославля, Аполлон Григорьев провозглашает: «Да, вот настоящая столица Поволжья, с даровитым, умным, хоть и ерническим народом, с торговой жизнью!»
Совпадает с современниками во мнениях и К.Д.Ушинский в своем очерке «Путешествие по Волге» 1860 года, вошедшем в школьные хрестоматии и сделавшем утвердившиеся представления о ярославце неоспоримым фактом: «Ярославцы известны по всей России своей ловкостью, сметливостью, необыкновенными способностями к промышленности и торговле. Трудно найти в России трактир, где бы из-за прилавка не выглядывала веселая физиономия ярославца» . Отмечают необыкновенную подвижность и деловитость, очень высокий уровень умственного и культурного развития, сознание превосходства, сметку и деловитость на все руки; ярославцы - «самое сметливое и бойкое из всех русских племен», это «народ бывалый, видавший виды и хлебнувший внешней трактирной цивилизации».По распространенному мнению, работают ярославцы умело и старательно, они трудолюбивы и находчивы. Ярославцы «нанимались преимущественно в такие должности, в которых требовались известные способности, знание дела, опытность, честность» .
Ум и предприимчивость, приходя в согласие, делали из ярославца в представлениях наблюдателей человека даже расчетливого, умеющего использовать свои преимущества не без выгоды. В нижнем, так сказать, регистре ярославца отличают, по общепринятому мнению, хитрость, изворотливость; он всегда помнит о своей выгоде.
Ярославец - не бунтарь, он не идет напролом, не пытается свою волю противопоставить миропорядку. Кажется, у него не так много той удали и отваги, того молодечества, которые нередко связывают с представлением о русском человеке. Но есть и они, поэт И.З.Суриков говаривал, что «ярославцу не вытерпеть, чтобы сюртук был застегнут на все пуговицы» . Потребность в шири ярославец реализует в согласии со здравым смыслом, в реальной действительности, умело и талантливо используя ее возможности, которые оказываются не такими уж и скромными. А если взрывает мосты и переходит через рубиконы - так идет до конца, уходя в радикальный религиозный экстаз мироотрицания. Можно еще заметить и эстетическую жилку ярославской натуры. Свободный, посвящающий себя искусству художник - фигура, до гениальности доведенная в личности ярославца Ф.Г.Волкова. Здесь, как и в других случаях, можно показать, как в личном опыте достигает кульминации та или иная черта культурного типа.
Ярославец - сын цивилизации. Европеизированность, урбанистическая осанка свойственны ему чуть ли не с рождения. Ярославль словно бы выделяется из общего провинциального ряда. Он не любит осознавать себя провинцией, никогда не мнит себя глухоманью. Ярославец стремится к столичности и хотел бы, пожалуй, даже превзойти высокомерных москвичей и петербуржцев в этом качестве, блистать и покорять. Широчайшие контакты со столичной культурой давали ярославцам возможность многое взять и перенять в Москве и Санкт-Петербурге. Прежде всего это относилось к самым внешним сторонам столичного быта. Погоня за модой, шик и щегольство - характернейшие черты ярославца. А.М.Смирнов-Кутачевский вспоминал былинный приговор «А щапливы, щеголивы в Ярослави городе» и тонко замечал: «Щапливость, щеголеватость - это выражение шика, блеска культуры, утонченностей человеческого общежития. Таким Парижем представлялся былине Ярославль, законодателем моды и вкуса. Среди общей характеристики разных русских углов Ярославль выступает в четком культурном окружении. Кругом дичь и глушь, мхи да болота, дублены сарафаны да пучеглазые бабенки; лишь московская да новгородская церковность конкурирует с культурной общежительностью Ярославля, с его изысканной щапливостью и щегольством» . С цивилизаторскими наклонностями связывают и прославленную чистоплотность ярославцев. Они - завзятые чистоплюи, белотелы, три пуда мыла извели, заботясь смыть родимое пятнышко.